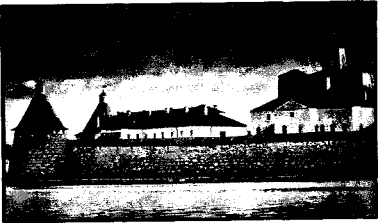Д.С. Лихачёв
из «Книги беспокойств»
соловки
В двадцатые годы в Петрограде-Ленинграде существовало множество кружков, особенно
среди молодежи. Собирались
и по пять человек, и по десять, и больше. Были кружки с «направлением» — например, философским, религиозным, поэтическим и т.д., но были кружки и без
«направления». Обычно собирались в назначенный день недели, читался и
обсуждался какой-либо доклад. Были кружки в помещениях школ, в какой-либо
свободной аудитории университета, у членов
кружка — тех, кто имел достаточную
для приемов комнату. В 1927 году я ходил в кружок, где каждый из
участников (а всего нас было восемь) старался перещеголять других в
экстравагантности своих докладов, выступлений и точек зрения. Шутя мы назывались Космической Академией наук,
сокращенно КАН. Члены кружка летом отправлялись пешком по какому-либо
маршруту, например от Владикавказа до Сухуми. Летом же катались на лодке по
Большой Невке. Сочинили свой гимн. У нас были изрядные стихотворцы. Гимн мы перевели на греческий.
Жилось нашей семье трудно. Это был 1927 год. Отец ушел с
работы, и нас стеснили в нашей квартире, пришлось жить в двух комнатах со
всеми ионовскими и своими книгами. Я не
мог найти работу. Жить в 20 лет на счет родителей я считал для себя
позорным. Наконец нанялся подбирать библиотеку в Книжном фонде на Фонтанке для
Фонетического института иностранных языков. Но, наняв меня, С. К. Боянус денег
мне не платил — просто забыл обо мне, а я напомнить не решался. Наконец получил от него за несколько месяцев ежедневной
работы 60 рублей и купил себе костюм. Отец беспокоился, что я никуда не
хожу, а к нам надо было попадать через проходную, добывать пропуск.
Естественно, и ко мне никто не ходил. Единственной отдушиной были «заседания» КАН.
В 1928 году ОГПУ приступило к ликвидации различного рода
кружков. Все «академики» были арестованы. Среди них 8 февраля был арестован и
я. Не могу забыть, как мой отец, образец мужества, лишился чувств при моем
аресте. Девять месяцев я просидел на Шпалерной (теперь улица Воинова). В самом
начале ноября я был привезен на Соловки. Условия существования там в целом
были ужасные. Но можно было попасть на тяжелые «общие работы» или оказаться в
относительно сносных условиях.
Чему я научился на Соловках? Прежде всего я понял, что
каждый человек — человек. Мне спасли жизнь «домушник» (квартирный вор)
Овчинников, ехавший с нами на Соловки вторично (его возвращали из побега, который
он героически совершил, чтобы увидеться вновь со своей «марухой»), и король
всех урок на Соловках, бандит и соучастник
налетов знаменитого Леньки Пантелеева — Иван Яковлевич Комиссаров, с
которым мы жили около года в одной камере.
После тяжелых физических работ и сыпного тифа я работал
сотрудником Криминологического кабинета и организовывал трудовую колонию для
подростков — разыскивал их по острову, спасал их от смерти, вел записи их
рассказов о себе, собирал воровские слова и выражения.
Страдал я их страданиями ужасно, ходил, как пьяный, от их рассказов о своей
жизни, об их страданиях, жизни в асфальтовых котлах, путешествиях в ящиках под вагонами.
Все это были больные люди, «занюханные» (с измененной
психикой от нюхания наркотиков), с отмороженными ногами, руками и т.
д., и т. д. Я собирал подростков из землянок в лесу на лесозаготовках, из самых
отдаленных частей острова. Каких только рассказов о них я не записал!
В остальное время я встречался с
самыми разнообразными людьми — разных
национальностей (был даже японский самурай), разного социального положения, разного образовательного уровня, разных профессий. Я
оценил моральную стойкость людей старого, дворянского воспитания. Несколько лет я работал с людьми,
известными в русской культуре начала XX
века, и с молодыми людьми, многие из которых были очень талантливы. Общение с ними было для меня в высшей степени полезным.
В начале ноября 1931 года меня вывезли на материк, и я стал работать на Беломорско-Балтийском канале в одном из самых ответственных узлов всех работ диспетчером
на железной дороге. И снова люди и люди. Ровно
через четыре с половиной года после своего ареста я был освобожден с красной полосой через всю
бумагу о моем освобождении,
удостоверяющую, что я освобожден как ударник Белбалтлага с правом
проживания по всей территории СССР. Я
вернулся в Ленинград, но потом все же мне пришлось хлопотать о снятии
судимости, что и было сделано решением Президиума ВЦИК. Помогли мне в этом доброжелательный президент Академии
наук СССР академик А. П. Карпинский и наркомюст Н. В. Крыленко.
Соловецкий монастырь
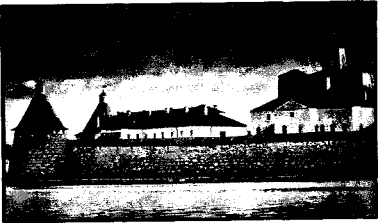
Из всей этой передряги я вышел с новым знанием жизни и с новым душевным состоянием. То добро,
которое мне удалось сделать сотням
подростков, сохранив им жизнь, да и
многим другим людям, добро, полученное от самих солагерников, опыт всего
виденного создали во мне какое-то очень
глубоко залегшее во мне спокойствие и
душевное здоровье. Я не приносил зла, не одобрял зла, сумел выработать в себе жизненную
наблюдательность и даже смог незаметно вести научную работу. Я изучал обычай воровской игры в карты и напечатал на эту
тему в лагерном журнале «Соловецкие острова» (1930, № 1) свою первую
научную работу. Собранные мною материалы по воровскому арго легли потом .в
основу двух научных работ, первая была напечатана в 1935 году, а другая только
в 1964 году. Не остался я равнодушен и к истории Соловков. Сейчас я вспоминаю
то время без чувства обиды, но с известного рода сознанием того, сколько оно мне дало для моего умственного
развития. И это вовсе не по
поговорке «что прошло, то будет мило». Испытания, которым я подвергался,
«милыми» стать не могли.
Не так давно в «Огоньке» (1988) в рубрике, которую ведет Евгений Евтушенко, напечатаны стихотворения
Юрия Казарновского из его книжечки,
изданной в середине
30-х годов. В примечании было сказано, что составитель не знает, кто такой Ю.
Казарновский и напечатал ли он что-либо еще до или после.
Юрий Казарновский из Ростова-на-Дону.
Родился он в начале века. Был в литературном
кружке в своем родном городе. Арестован.
Сидел на Соловках. И печатался в
журнале «Соловецкие острова». Там несколько стихотворений его можно найти. Не лучшие стихотворения,
но те, которые могли пройти цензуру. Потом он был все время в лагерях и был последним, кто видел О. Э. Мандельштама.
Мы звали его на Соловках Юрка Казарновский. Он был великий
озорник. Насколько это было возможно в лагерных условиях. Начальство в лагере
было глупое и необразованное. Казарновский
работал в культурно-воспитательной
части. Во главе ее стоял совершенно неграмотный
северянин.
Тогда была такая теория о «социально близких» и «социально дальних». «Близкие» — это воры, а «дальние»-
контрреволюционеры. Теория гласила, что надо
всё делать для «социально близких».
Журнал «Соловецкие острова» издавался с 1926 по 1932 год ;
свободно продавался по стране. Его можно найти в библиотеках. Там иногда
проходили довольно озорные вещи, много
любопытного материала.
Я попал в лагерь в конце ноября 1928 года, а Казарновский немного раньше, по-моему, весной. Меня
осенью 1931 года увезли с Соловков, и
4 августа 1932 года я был освобожден с «красной чертою». Из пяти я
пробыл там четыре с половиной года.
«Красная черта»— это значит, что я
был освобожден как ударник Беломорско-Балтийского
канала: к этому времени он был закончен, и Сталин, в восторге, всех
строителей освободил. Так мне повезло.
(Заметки и наблюдения. Л. 1989.)
|
Башня Соловецкого монастыря
|
Д. С. Лихачев (фото, сделанное в Соловках)
НА СОЛОВКАХ
Вспоминая сейчас то, что было более 60 лет тому назад, я прихожу к выводу, что самое трудное —
восстановить время, когда произошло то или иное событие. Я ясно помню,
зрительно помню, почти вижу людей, их лица,
природу вокруг Соловецкого Кремля, роты, поверки, слышу расстрелы,
вспоминаю содержание разговоров, но расположить все это в хронологически
правильном порядке очень трудно. Как будто бы в моей памяти лежат фотографические пленки событий, записи
разговоров, но они лежат не по порядку. Вот почему я избрал «топографический» принцип в расположении своих воспоминаний:
по местам и о местах заключения. Как ни странно,
вспоминая именно так, мне постепенно удается восстанавливать и последовательность всего происходившего.
Из разговоров на Соловках в 1929 году я помню: плотность «населения» на островах больше, чем в
Бельгии. И при этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но неизвестны. Не знаю:
входили ли в этот расчет плотности населения озера.
Что же это было на Соловках —
гигантский муравейник? Да, муравейник был —
между зданиями трудно было даже
протолкнуться. Давка была при входе и выходе из 13-й роты — рядом с
Преображенским храмом. Охранники из
заключенных с палками («дрынами») «наводили порядок». И при этом вход и выход
был доступен не каждому — только с «нарядами» — листами на работу.
Ночью проходы между зданиями затихали,
высились богатырские
стены, башни и храмы, устойчиво стоявшие с помощью своих расширявшихся книзу
стен...
Попробую описать устройство лагеря. В
Кремле (так называлась часть монастырских
строений, огражденная стенами из гигантских валунов, поросших оранжевым лишайником) было 14 рот. 15-я рота была вне
монастыря для заключенных, живших в различных «шалманах» — при Мехзаводе, алебастровом заводе, при Бане № 2
и т.д. Про лагерное кладбище
говорили — 16-я рота. Шутили, но трупы зимой лежали незасыпанные и раздетые,
как в некоторых ротах.
Почему заключенные распределялись по
«ротам»? Я думаю — тут известную роль сыграли
заключенные из военных, устанавливавшие порядок среди первых прибывших на острова заключенных. Военные были на
первых порах единственной
организующей силой, способной разместить,
накормить, установить элементарный порядок среди прибывавших и прибывавших на
острова Соловецкого архипелага
заключенных. Они и делали многое по
армейскому образцу.
1-я рога была ротой
«привилегированных» — командиров,
начальников. Она помещалась за алтарем Преображенского
собора на первом этаже и глядела на площадь общелагерных поверок. Над первой ротой помещалась 3-я
«канцелярская» рога с окнами в обе стороны. Где была 2-я рога — не помню. 6-я
рота, «сторожевая», состояла в основном из
священников, монахов, епископов. Им поручалась работа, на которой нужна
была честность: сторожить склады, каптерки,
выдавать посылки заключенным и т.д. Она помещалась в основном в здании,
тоже обращенном на площадь поверок. 7-я рота
— «артистическая». Здесь жили работники культурно-воспитательной части: актеры, музыканты,
административные деятели учреждений,
изображавших «перевоспитательную» работу на Соловках. 8, 9 и 10-я роты
тоже были «канцелярскими». 11-я рота — это
карцер. Он помещался у
Архангельских ворог. Там заключенные сидели на «жердочках», а спали прямо на полу.
12-ю рогу — не помню.
Из всех этих рот — 13-я была самой
большой и самой страшной.
Были там многоэтажные нары. Туда принимали прибывавшие этапы. Там их муштровали, чтобы сломить всякое желание сопротивляться или протестовать. Оттуда направляли на тяжелые физические работы.
Все прибывающие на Соловки обязаны
были пробыть в 13-й роте не менее
трех месяцев. Называлась рота «карантинной».
Нас выстраивали строем по десять человек на длительную проверку по коридорам, окружавшим
Троицкий и Преображенский храмы. Мы пересчитывались, и последний в строю орал: «Сто восемьдесят второй.
Полный строй по десяти». В роте на нарах вплотную друг к другу могло поместиться три-четыре, а то и пять тысяч человек.
По особым ходатайствам удавалось вызволить кого-либо
(особенно из известных) из карантинной роты.
Помню, как начальник здоровался с
нами: «Здравствуй,
карантинная рота!» И мы, сосчитав про себя до трех, после последних слов этого
«приветствия» хором гаркали «Здра!». Затем по очереди подходили к маленьким столикам, за которыми сидели нарядчики
(среди них чубаров-цы: участники ужасающего группового изнасилования в Чубаровом переулке в Ленинграде в 1927 г.), и получали
наряды на тяжелую работу. Но об этом потом.
В 14-й роте, помещавшейся в единостолпной трапезной палате и прилегающих помещениях, жили те, кто
не был еще распределен после
трехмесячного пребывания в 13-й роте по «командировкам» и дожидался
отправки на лесозаготовки, торфоразработки и всякие производства.
15-я рота, иначе «сводная», была для
тех, кто жил по разным углам за пределами
Кремля. Эта рота считалась самой
«блатной», т. е. самой привилегированной.
16-я рота — как я уже сказал,
«кладбище». Кроме рот в
Кремле существовал отдельно обширный лазарет, где обычно все было до предела переполнено, и «команда выздоравливающих» в подвале недалеко от прачечной.
Вот, кажется, и все из «жилого» в центральном, «кремлевском» участке.
Но кроме «жилых» помещений в пределах Кремля были еще и
«работающие» помещения: баня — там, где Сушило, Адмчасть, распоряжавшаяся всем
порядком и снабжением лагеря (тут работали главным образом лучшие организаторы — военные). ИСЧ (информационно-следственная
часть), сочинявшая для собственного существования
различные «заговоры», выслушивавшая информаторов (сексотов) из заключенных
(для их удобного приема был уже ныне не существующий деревянный домик под
Сторожевой башней вне Кремля), «Помоф» (пошивочная мастерская, где работали по
преимуществу женщины). «Помоф» и часть
лазарета помещались в первом «отсеке» Кремля, недалеко от Никольских ворот.
Был театр с фойе, служившим также лекционным залом. Но самое главное — в
Кремле существовал Музей. О нем я расскажу подробно ниже. В Музее было даже
уютно, а в театре ставились замечательные
постановки, играли прекрасные актеры, но попасть в него было труднее,
чем сейчас в Большой театр в Москве. О театре опять-таки подробнее потом.
Наконец, в Кремле, в первом его отсеке с отдельным выходом через Сельдяные ворота (сейчас ими не
пользуются, они заросли, въелись в
землю), существовал «монастырь» для
монахов с игуменом, схимником (не путать
с отшельником, якобы жившим где-то в лесах) и отведенной для монахов на кладбище деревянной Ону-фриевской церковью, где совершались монастырские
богослужения. Эти монахи были
специалистами по рыбной ловле. Они
умели управляться с сетями, знали течения в море, ход рыбы и т.д. Ловили
они навагу, но главным образом знаменитую
соловецкую сельдь, шедшую на столы
Московского Кремля. Сельдь эту еще называли «кремлевской». Когда Онуфриевскую церковь закрыли, сельдь исчезла (может быть, в знак невыполнения УСЛОНом своих обязательств перед монахами). Монастырь был закрыт, монахов изгнали или уничтожили —
не знаю. Был монах и на Муксалме,
умевший обращаться с коровами (коровы были в Сельхозе у Кремля и на Муксалме, где находились чудные выпасы для
скота).
Были еще в Кремле «заведения»
помельче. Клетушка под
большой колокольней, где расстреливали поодиночке (выстрелом в затылок, после чего приезжала телега с ящиком, куда бросали труп, и приходили поломойки мыть пол от
крови) (Отсюда выражение: «сыграть в
ящик» — умереть). Была хлебопекарня, выпекавшая отличный хлеб по
технологии еще XVI века — митрополита Филиппа. Был дровяной двор (он сейчас пустой
— там висят два сохранившихся
колокола — норвежский и царский). Была кипятильня (около хлебопекарни), где из выходившего наружу крана можно было для рот получать кипяток (его забирали в больших медных
монастырских кувшинах для кваса).
Назначение помещений иногда (очень
редко) менялось. Так,
помещение 14-й роты (единостолпная палата) одно время использовалось как столовая.
В каждое помещение посторонним вход
был запрещен. Дежурили
люди с палками, которые, не стесняясь, били слишком настойчивых посетителей. Я лично общался с людьми из других рот главным образом на работе.
Вход и выход из Кремля был только
через Никольские ворота.
Там стояли караулы, проверяли пропуска в обе стороны. Святые ворота использовались для размещения
там пожарной команды. Пожарные телеги могли быстро
выезжать из Святых ворот наружу и внутрь. Через
них выводили на расстрелы — это был кратчайший путь из 11 -ой (карцерной) роты до монастырского кладбища, где производились расстрелы. Но об этом
потом.
За пределами Кремля помещалось в
здании бывшей монастырской
гостиницы Управление СЛОН, женбарак, Мехзавод
(бывшая «Кузня»), Сельхоз, Баня № 2, где производилась
санобработка и где просиживали по нескольку
часов голые заключенные, пока выпаривалась в вошебойке их одежда,
Алебастровый завод, Канатный завод, спортплощадка (для вольнонаемных), обслуживавшаяся
двумя-тремя заключенными, дом и столовая для
вольнонаемных (для немногих начальников). Вдалеке находился Кирпзавод (Кирпичный завод).
Что же помещалось на остальной части
Соловецкого архипелага?
Должен сказать, что я знал остальную часть лагеря очень плохо: только по моим
пешим командировкам для
собирания сведений о подростках, которых необходимо было определить в Детколонию, вскоре переименованную в Трудколонию и печально
известную в связи с
посещением Соловков Максимом Горьким в 1929 году.
Прежде всего следует упомянуть мужской
карцер на Секирной горе
(«Секирка»), женский карцер на Большом Заяцком острове («Зайчики»), Голгофу — для безнадежно больных и глубоко старых людей (главным образом священников и нищих, собранных с папертей
московских церквей).
Существовали лесоразработки,
торфоразработки, обширные
лагеря в Савватиеве, Исакове, Филимонове, Муксалме.
Существовали безымянные лагеря в
лесу. В одном из них я
был и заболел от ужаса виденного. Людей пригоняли в лес (обычно в лесу были
болота и валуны), заставляли рыть траншею
(хорошо, если были лопаты). Две стороны
этих траншей были повыше и служили для сна, вроде нар, центральный
проход был глубже и обычно весной заполнялся талой водой. Чтобы залечь в такой траншее спать, надо было переступать через уже
лежавших. Крышей служили поваленные
елки и еловые ветви. Когда я был в такой траншее, чтобы спасти из нее детей, в этой траншее «шел дождь»: снег сверху уже таял
(это был март или апрель 1930 г.), сливался и на земляные лежбища, и в
центральную канаву, которой надлежало быть
проходом.
Я уже не говорю о «комариках»
(наказание, применявшееся летом), о том, как
не пускали на ночь в эти траншеи, когда не выполнялся «урок»; как работали, какой выполняли «ударный» план... После одного
такого посещения в 1931 году у меня
открылись сильнейшие язвенные боли,
которые вскоре прошли, так как появилось
язвенное кровотечение, перенесенное мною «на ногах». Но обо всем в свое время.
В этих-то лесах главным образом и
погибали заключенные.
В тридцатом году осенью умерли тысячи «басмачей» — изнеженные мужчины в халатах и шелковых башмаках. Умерли интеллигенты, которых мы, жившие
в Кремле, не успели перехватить из
13-й и 14-й рот.
Итак, описав кое-как богатство
соловецкой лагерной топографии, перехожу к
рассказу о своих «путешествиях» по этому миру, в которых встречи с людьми — главное.
В сарае на Поповом острове, где от
стояния всю ночь в тесноте у меня отекли ноги,
мне под утро уступили место на нарах — немного полежать, ибо сапоги мне стали малы и ноги не держали. Уступили
удивительные люди — молодые красавцы
кабардинцы в национальной одежде.
Одного из них звали Дивлет Гирей Албаксидо-вич. Я запомнил — ибо вечно ему благодарен. Кабардинцы очистили два места на нарах для стариков: для
муллы и для православного священника. Охраняли их сон от натиска шпаны.
Видя мое состояние, дали полежать и мне.
Священник, который лежал рядом — украинец по национальности, — сказал мне: надо найти на Соловках отца
Николая Пискановского — он поможет. Почему именно
он поможет и как — я не понял. Решил про себя, что отец Николай,
вероятно, занимает какое-то важное положение.
Предположение нелепейшее: священник и «ответственное
положение»! Но все оказалось верным и оправдалось:
«положение» отца Николая состояло в уважении к нему всех насельников острова, а помог он мне на годы.
На следующий день нас грузили на пароход «Глеб Бокий», что отправлялся на Соловки. Домушник (вор
по квартирам со взломами) Овсянников
стоял рядом и предупреждал: «Только
не торопитесь! Будьте последними». Он был второй раз на Соловках. Первый
раз бежал, явился к своей «марухе» на Сенной
в Ленинграде, где и был схвачен.
Прошел всю дорогу к ней пешком по шпалам с «копями» за спиной. Когда
замечал патруль, то одевал «когти» и залезал на ближайший телеграфный столб. Разумеется, со столба патруль его не
снимал: человек работает!
Избит Овсянников был в Кемперпункте
страшно. Избивали его за то, что подвел
часовых, начальников, «испортил статистику»
(считалось, что с Соловков бежать нельзя) и т.д. Но и избитый домушник
оставался человеком. Мы его подкармливали, а он помогал нам своим лагерным опытом. Когда людей стали
запихивать в трюм, он затащил нас на
площадку посредине трапа и посоветовал
не спускаться ниже. И действительно, там, внизу люди начали задыхаться, нас же команда выпустила раз или два на палубу подышать. После девяти
месяцев тюрьмы я дышал свежим морским воздухом, смотрел на волну, на проходившие мимо безлесые
острова.
Около Соловков нас снова запихнули в
чрево «Глеба Бокого»
(это живой человек, в честь которого был назван пароход,
— людоед — главный в той тройке ОГПУ, которая приговаривала людей к срокам и
расстрелам). По шуршанию льда о борта парохода мы поняли, что подходим к
пристани. Был конец октября, и у берегов стал
появляться «припай» — береговой лед. Вывели нас на пристань с вещами,
построили, пересчитали. Потом стали
выносить трупы задохшихся в трюме или тяжело заболевших: стиснутых до перелома костей, до кровавого поноса.
Нас, живых, повели в Баню № 2. В холодной бане заставили
раздеться и одежду увезли в дезинфекцию. Попробовали воду — только холодная.
Через час примерно появилась горячая. Чтобы согреться, я стал беспрерывно
поливать себя горячей водой. Наконец вернули одежду, пропахшую серой. Оделись,
повели к Никольским воротам. В воротах я
снял студенческую фуражку, с которой не расставался, перекрестился. До
того я никогда не видел настоящего русского монастыря.
Я воспринял Соловки, Кремль, не как новую тюрьму, а как
святое место. Прошли одни ворота, вторые и повели в 13-ю роту. Там при свете
«летучих мышей» (были такие не гаснувшие на ветру фонари, так называвшиеся)
нас пересчитали, обыскали. Помню, я никак не мог завязать свою корзину, которую
купили мне родители: легчайшую и прочнейшую, имевшую форму чемодана, и никак
не мог проглотить печенье, что оказалось в корзине. Горло мое так отекло,
распухло, что глотнуть я не мог. С сильной болью, размешав кусочек печенья в
обильной слюне, я проглотил...
Затем произошло неожиданное. Отделенный (мелкий начальник
над каким-то участком нар) подошел именно ко мне (верно, потому, что я был в
студенческой фуражке — и поверил ей), попросил у меня рубль, и за этот рубль,
растолкав всех на нарах, дал место мне и моим товарищам. Я буквально свалился
на нары и очнулся только утром. То, что я
увидел, было совершенно неожиданно.
Нары были пустые. Кроме меня оставался на нарах у большого
окна с широким подоконником тихий священник и штопал свою рясу. Рубль сыграл
свою роль вдвойне: отделенный не поднял меня и не погнал на поверку, а затем на
работу. Разговорившись со священником, я задал ему, казалось, нелепейший
вопрос, не знает ли он (в этой многотысячной толпе, обитавшей на Соловках) отца
Николая Пискановского. Перетряхнув свою рясу, священник ответил: «Пискановский?
Это я!»
Сам неустроенный, тихий, скромный, он устроил мою судьбу
наилучшим образом. Но об этом потом. А пока, оглядевшись, я понял, что мы с
отцом Николаем вовсе не одни. На верхних нарах лежали больные, а из-под нар к
нам потянулись ручки, прося хлеба. И в этих ручках был тоже указующий перст
судьбы. Под нарами жили «вшивки»,
подростки, проигравшие с себя всю одежду. Они переходили на
«нелегальное положение» — не выходили на
поверки, не получали еду, жили под нарами, чтобы их голых не выгоняли на
мороз, на физическую работу. Об их
существовании знали. Просто вымаривали, не давая ни хлеба, ни супа, ни
каши. Жили они на подачки. Жили, пока жили!
А потом мертвыми их выносили, складывали в ящик и ящик везли на
кладбище. Это были известные беспризорные,
которые часто наказывались за бродяжничество, за мелкое воровство.
Сколько их было в России! Дети, лишавшиеся
родителей, — убитых, умерших с голоду, угнанных за границу с белой
армией, эмигрировавших (помню мальчика, утверждавшего, что он сын философа Церетели). На воле спали они в асфальтовых котлах, путешествовали по России в
поисках тепла и фруктов в ящиках под пассажирскими вагонами или в
пустых товарных. Нюхали они кокаин, завезенный
из Германии, нюхали анашу. У многих перегорели носовые перегородки. Мне было так жалко этих «вшивок», что я ходил, как пьяный, — пьяный от
сострадания. Это было уже во мне не чувство, а что-то вроде болезни. И я
так благодарен судьбе, что через полгода смог некоторым из них помочь. Как? Об
этом в последующем. А пока возвращаюсь к жизни в 13-й карантинной роте.
Одной из моих первых забот было сохранить вещи, чтобы не
украли. В один из первых дней (может быть, даже в первый) я передал корзину с
вещами кому-то из людей, живших в канцелярских ротах. Потом я научился спать так, чтобы не украли мой романовский полушубок.
Ложась на нары, переворачивал его полами к лицу, продевал разутые ноги
в рукава, а сапоги клал под голову как подушку. Даже при моем крепчайшем
юношеском сне меня нельзя было обокрасть, не разбудив.
Утром я получал свою «пайку» хлеба и кипяток в большую эмалированную кружку, которой снабдили меня
заботливые родители. По возвращении с работы в ту же кружку мне наливали
поварешкой похлебку. Наряды на работу давали утром во тьме, у столов,
освещавшихся «летучей мышью». Отправляли на работу группами. У меня была вторая
группа трудоспособности, которую определила медицинская комиссия еще в
Кемперпункте, поэтому отправляли меня на работы сравнительно легкие. Несколько
раз я был электромонтером в Сельхозе. Однажды
ходил в Лисий питомник на островке в Глубокой губе. Там заключенные жили в относительно сносных условиях, и нас даже подкармливали. Но
перебираться на остров было опасно:
у берегов был уже лед, вода накатывалась на плот и обмывала сапоги, а
сходить на берег было особенно трудно. Как
мы все не утонули, не знаю. Возили мы и свиной навоз. Мало того, что
навоз был сильно пахучим, — было легко
запачкаться. Командовал нами заведующий Сельхоздвором. Мы, все «вридлы» (временно исполняющие должность лошадей), в
упряжке разговаривали на разные
темы. Лингвист Игорь Евгеньевич
Аничков, воспитывавшийся в св9е время в лицее в Париже, в Швейцарии и в Англии, в Итоне, рассуждал о том, как
склонять это новое слово «завдвором» и как быть,
если «завдворомом» окажется женщина: будет ли она «завдворома» или
как-то иначе? Толя Тереховко, Федя
Розенберг, Володя Раков — читали стихи. Удивительной была роль поэзии в лагерных условиях! Кто-то это уже отмечал в своих лагерных воспоминаниях, и
мне приходится только подтвердить это. Стихи отвлекали, увлекали,
утешали. Уже тогда мы радовались стихам Мандельштама,
Пастернака, как и Блока, Пушкина, Тютчева.
Сколько раз мы повторяли: «В Петербурге мы сойдемся снова», «Отечество нам Царское Село» (с него-то и началось наше «дело») (Володя
Раков неосторожно послал шутливую телеграмму из Царского Села,
где жил, Феде Розенбергу с поздравлением от «папы римского» с годовщиной Космической Академии).
Навоз мы вскоре весь перевозили, снег,
который надо было расчистить, — тоже, и вот мне дали новый наряд— помощником ветеринара в Сельхоз.
Ветеринар оказался не
ветеринаром; а авантюристом-доносчиком. Он пропадал на много часов: как выяснилось, писал огромный донос1—в
Москву, рассчитывая, что его вывезут туда с Соловков на гидроплане для дачи
показаний. И в самом деле — через несколько
дней после отправки доноса его вызвали на материк, к счастью для меня и
моих коров. Дело в том, что коров
«ветеринар» не кормил, они мычали от
голода, он стал доказывать, что у коров эпизоотия (массовое
заболевание), а меня заставлял измерять у
них температуру, ставя градусники под хвосты в задний проход.
Температура у всех коров оказывалась выше
37 градусов (как и должно было быть у коров), а с моими отметками о температуре
он бегал по начальству и требовал
муки для подкормки. Муку неграмотное начальство ему давало, но большую часть он уносил в свою Первую
роту. Оставшуюся часть муки я закладывал в огромный котел для кипячения белья в
портомойке у озера. Я разводил огонь, заливал воду и... болтушка моя пригорала
так, что балованные монахами коровы отказывались
ее есть.
Должен сказать, что отец Николай успел к этому времени познакомить меня с некоторыми
заключенными, постоянно работавшими
в Кремле. Среди них—и с владыкой
Виктором Островидовым, счетоводом Сельхоза. Владыка посоветовал мне как
можно скорее, любыми средствами выйти из под опеки Комчебек-Возняцкого (такой была фамилия «ветеринара»). Впрочем, ко
времени, когда мой второй рубль лег на стол нарядчика, Комчебек-Возняцкого уже вывезли в Кемь, а на его
должность вступил настоящий пожилой
крестьянин, который, кстати,
объяснил мне и нормальность «ненормальной»
температуры у коровы под хвостом.
Самое ужасное было носить на пристани бараньи туши на
спине. Я был не только физически не приспособлен вообще, но изрядно ослабел за
девять месяцев сидения в тюрьме. Ноги не
держали меня, руки замерзали, мой романовский полушубок засалился.
Через месяц нас повели в баню — уже другую — у Сушила. Окатившись горячей водой, я ужаснулся,
увидев, что все мое тело кровоточило. К этому времени я был весь во вшах, и расчесы не заживали, а может
быть, было столько новых, что с меня катилась розовая вода, все тело саднило. Не помогали от вшей и мешочки с
нафталином и чесноком, которыми я
был обвязан в излюбленных вшами
местах — там, где белье особенно тесно прикасается к телу: вокруг шеи, вокруг пояса и около щиколоток, где нижнее
белье имело завязочки.
Вши были большим препятствием для
вызова на канцелярскую работу из 13-й роты. В
канцелярских ротах вши появлялись лишь
эпизодически. Приглашать к себе овшивевших
канцеляристы боялись. И все же по просьбе отца Николая меня принял в своей
переполненной жильцами келье Николай
Николаевич Бахрушин. Меня посадили
посредине комнаты на табурет, чтобы я не соприкасался с постелями обитателей, и Бахрушин обещал поговорить с заведующим
Криминологическим кабинетом Культурно-воспитательной
части Александром Николаевичем Колосовым, формировавшим в то время штат своего волшебного заведения.
Через несколько дней Александр
Николаевич встретился
со мной на улице у Царской часовни. Мы сели с ним на скамейку на почтительном расстоянии
друг от друга, хотя вши на морозе не переползают, и стали разговаривать на разные темы. Александру Николаевичу было между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами. Старомодный человек, очень почтенной наружности,
говоривший медленно и внятно, как полагается воспитанному человеку, он
в конце концов перешел от общих тем к «специальной».
Ему нужны были молодые энергичные люди,
которые могли бы способствовать осуществлению его замысла: спасению подростков от влияния взрослых воров.
Опираясь на тоненькую и изящную березовую палочку, с которой он не расставался,
и мечтательно смотря поверх кровель —
куда-то туда, за море,— он говорил
о несчастной судьбе «нашей молодежи». В общем, я понял, что он меня
берет... Но должно было пройти время. Вскоре
меня перевели в 14-ю роту, где уже были мои содельцы Володя Раков и Федя Розенберг, и мне дали неплохое место на нарах. Я даже смог взять часть
своих вещей, переодеть белье. На
какую-то все еще физическую работу
меня вызывали из 14-й роты, я не помню. Помню, что вечерами я был свободен и мог слушать разговоры и рассказы моих соседей. Там был, например,
архитектор Клейн, которого я даже
принимал (ошибочно) за строителя
Музея изящных искусств в Москве. Он был необычно худ и, как сейчас помню,
варил себе кашу в маленькой кастрюльке
на времянке, стоявшей между нар. Советовал то же самое делать и мне (у
меня к этому времени разболелась моя язва1—я
не подозревал, что она у меня есть). Был некто очень образованный,
Кошкорёв, были интеллигент с шведской
фамилией, поэт из Москвы, кажется
Туфанов, актер какого-то известного театра и другие. Вскоре я почувствовал резкую слабость и, кажется, головную боль. Мои товарищи вызвали лекпома (лекарского помощника). Он смерил мне температуру. 40
градусов! Федя и Володя стащили меня с нар и поволокли в лазарет — благо он был недалеко. В лазарете уже
работал тогда врачом мой учитель по
средней школе Иван Михайлович Андреевский (помимо университетского филологического образования, полученного за рубежом, у
него былеще диплом врача-психиатра).
Меня выкупали в ледяной воде (что, кажется, было даже полезно), положили
на втором этаже на топчан, и я впервые
сладостно почувствовал, что меня не кусают вши. Врачи стали думать — что со мной? Через день определили — я был первым
заболевшим сыпным тифом,
открывшимся в 1929 году. У меня был
бред, и содержание этого бреда я помню до сих пор. Дело в том, что когда мне поставили диагноз
«сыпняк», то стали сразу же думать об
особом отделении для больных этой болезнью.
Меня отнесли куда-то вниз и положили на солому. И вот мне стало
казаться, что я лежу на улице, окружен
толпой подростков и тут привозят гору лаптей. Подростки в одном белье, босые, и мне нужно распределить среди них лапти. Помню даже санки с этими
лаптями. Я хочу подняться и не могу,
ползу, но меня водворяют на место. Мне жалко дрожащих от холода, меня
самого трясет, но нет сил сделать то, что я должен. Сон был пророческим: в будущем мне удалось добыть для
молодых воров обувь, портянки,
теплую одежду. Но об этом дальше.
Потом помню, что меня перевели в другое, светлое помещение, и в короткий зимний день из этого
помещения был виден куполок
надвратной Благовещенской церкви.
Такой тоски, как в те дни, я не испытывал никогда в жизни. Это было отчаяние.
Еще через какой-то промежуток времени
я очутился в «команде выздоравливающих» под
низко нависавшим каменным сводом, с проходившей через него над моей головой широкой трещиной, из которой на меня
нещадно дуло холодом.
В этой «команде» мне запомнились две
встречи, придавшие мне
душевные силы.
Рядом со мной лежал пожилой
крестьянин, которому я
почему-то понравился. И вот однажды он наклонился ко мне и сказал: «Я научу тебя одной
штуке, и ты будешь всегда
сыт». «Штука» заключалась в следующем. Повсюду носят валенки, но на валенки нужны резиновые галоши. Выкроить из резины (для этого служили камеры автомобильных колес) галоши трудно: трудно ее резать — все идет вкось. Так вот: резать нужно
ножницами в лохани с водой: под водой. Он передал мне этот свой «секрет»
с таким хорошим чувством, что я до сих пор помню его так, точно я всю
последующую жизнь только и делал, что резал резину от автомобильных камер. Его «секрет» согрел меня на всю жизнь.
А другая встреча была с человеком совсем иного мира. Дело в
том, что общая «параша» нашей команды стояла
в небольшом соседнем помещении. Она была железная, высокая, и чтобы оправляться, надо было подниматься по лесенке, а это было для меня очень
трудно. Я был слаб и чувствовал, что свалюсь: меня шатало. Но около «параши» дежурил представительный старик с большим
посохом в руках. На нем была черная шапка. Видом
он был явно с Кавказа. Про него говорили, что он католикос. Я потом, на свободе, тщетно стремился узнать — армянский ли
он был католикос или глава грузинской
церкви. Может быть, потом еще узнаю. Он, ласково улыбаясь, подавал мне руку и держал меня все время, пока я оправлялся. Я просил у него
извинения, — прямо не знаю как. Но он, улыбаясь, успокаивал меня всячески. Боже мой, кто бы еще мог себя вести
подобным образом, кроме этого
католикоса? С тех пор я не забываю ни его удивительного отношения ко
мне, ни его ласкового лица.
Подвал «команды выздоравливающих»
памятен мне еще одним
лицом. Ко времени этих новых встреч он был уже
не подвалом для команды выздоравливающих, а продуктовым
складом, и дежурил около него сторож — Марачников.
Забыл его имя. Сын астраханского торговца хлебом, он работал в Советском торгпредстве в Париже и женился там на среднего достатка женщине,
имевшей свой дом. Во второй половине двадцатых годов началось обновление состава торгпредств. Делалось
это так: вызывали работника в командировку в Москву, а затем уже не выпускали из Москвы. Вызвали и
Марачни-кова. Он поехал. Роман
Якобсон из Праги, также женившийся за рубежом, не поехал в Москву и
остался там «невозвращенцем», а Марачников был наивнее. Жена любила его и не
верила, что он не нарочно покинул ее. Слала
ему телеграммы и умоляла вернуться. Марачников решил бежать через турецкую границу около Батума (теперь
говорят Батуми). Но телеграммы из Парижа настигали
его и там. Понятно, что вскоре он был арестован и получил свои десять лет. Однако вернуться к жене ему
хотелось, и он попытался бежать с Кондоострова, куда отправляли не только обнаруживавших себя сексотов по
какой-то статье Уголовного кодекса как за служебное
преступление, но и людей, «нуждавшихся» в особо суровом исправлении. С компанией заключенных он захватил лодку и переправился на материк.
Марачников шел ночами вдвоем с кем-то еще, а днем спал в лесу. ОГПУ в случае побегов «предупреждало» население
деревень, что бежали чрезвычайно
опасные преступники, способные
убивать, грабить и насиловать: их надо непременно задержать. Марачников с товарищем об этих предупреждениях
ничего не знали и зашли в какую-то избу попросить
хлеба. Мужики захватили обоих и заперли в сарае. И вот тут произошло нечто, что его очень тронуло. Ночью
кто-то поскребся в дверь сарая, и он услышал голос местного парня, дурачка:
«Кони, а кони! Я вам хлебца принес».
В общем, Марачников получил еще десять лет. Его били, сделали инвалидом, и он был отправлен на
«легкую» работу — сторожить «мой»
склад — подвал, где раньше я жил.
Мы, когда удавалось, приходили к нему на его пост, и он пел нам
удивительные русские романсы, ямщицкие
песни, которые пели русские хоры в ресторанах Парижа. Потребность в пении, как и в поэзии, была удивительной.
Итак, возвращаюсь к своему
«топографическому» обозрению Соловков. У меня
оказался чрезвычайный «блат» в Адмчасти
Управления, помещавшейся недалеко от
Пожарных ворот на втором этаже. Моя мать дружила с Ольгой Александровной
Мельниковой. Ее муж, Александр
Иванович Мельников, был «флаг-офицером» А. Керенского, как я понимаю —
его морским адъютантом (Мельников служил
раньше в царском флоте). Как только
я получил в Кремле возможность выходить, я к нему отправился в Адмчасть.
Его фамилия была записана у меня на кошелечке, в котором лежали заветные три рубля. Записана она была так: нарисована ветряная
мельница и к ней приписано «ов». Записана была и другая фамилия «Асоциани», но его к моему «приезду» уже
не оказалось на Соловках.
Мельников был сурового вида, истощенный, худой, невысокого роста человек. На лице у него была
странная складка над носом,
придававшая ему очень сердитый вид. Он
оказал и оказывал потом чрезвычайные услуги. Во-первых, он осведомился у Колосова — берет ли он меня к себе в Криминологический кабинет и, узнав, что
берет, направил меня прямо в камеру,
где жил Колосов, чрезвычайно испугавшийся — не занесу ли я к ним
тифозных вшей. А во-вторых, спустя некоторое
время Мельников выписал мне пропуск,
позволявший выходить и входить в любое время в Кремль. Это позволяло мне
совершать небольшие прогулки в редкие
свободные дни по дорогам, шедшим в Савватиево, в Филимоново (эту дорогу
я особенно любил) и на Муксалму, куда я еще
в 13-й роте ходил с санями
«вридлом».
|
В. Свешников
(псевдоним —
В. Кемеикий
по фамилии матери)
Рисунок
Д. С. Лихачева
(Соловки)
|
Третья рота размещалась на втором и
третьем этажах здания, в
котором на первом этаже помещалась привилегированная
первая рота. Здание фасадом выходило на площадь генеральных поверок (там, где у
стены Преображенского собора находилась под
металлическим балдахином могила
Авраамия Палицына). Наша камера выходила окном в противоположную
сторону. Из окна была видна дощатая кровля стены, за которой ходили сотрясавшие монастырские стены небольшие составы
Сол-жеде. Солжеде — это бывшая узкоколейная дорога из Новгорода в Старую Руссу. Ее в начале двадцатых
годов заменили обычной ширококолейной, а два-три паровичка, товарные вагоны и еще один классный
(пассажирский) перевезли на Соловки.
Дорога соединяла Кирпзавод, Мехзавод
(бывшая монастырская кузня), канатную фабрику, пристань у здания УСЛОНа
и продолжалась до Филимонова, объединяя
несколько мест лесозаготовок и торфоразработок.
В нашей камере, за окном которой
часто посвистывали и
пыхтели паровозики Солжеде, жили пять человек. Один топчан стоял под окном, примыкая к подоконнику, а вдоль длинных стен стояло по два топчана (впрочем, вместо одного из топчанов помещался жесткий деревянный монастырский диван). Меня, как новичка, да к
тому же и самого молодого, положили
под окно, из которого нещадно дуло.
Другие четверо были любопытными людьми. Прежде всего А.Н.Колосов —
«папашка», как его звали в Кримкабе молодые,
обожавшие его люди. Он носил
великолепную седую бороду, которую, впрочем, хвалился сбрить, как только
получит свободу. Каждое утро он вставал
раньше других, массировал лицо, расчесывал бороду перед маленьким зеркальцем.
Был ли он самовлюбленным человеком? Нет,—думаю, он хотел вернуться к семье «таким же» —
красивым, моложавым, учтивым, интеллигентным. Когда приехала на свидание
его элегантная жена и хорошенькая дочка, с которыми он нас всех «кримкабовцев»
познакомил в «шалмане», нанятом для свидания у какого-то блатного заключенного, я это понял. Но о «папашке» — в дальнейшем.
Другим моим сожителем по камере в Третьей роте был Афинский (ах, забыл, забыл его имя и отчество
— не могу себе простить) (Вспомнил—Борис
Николаевич.). Это был кассир УСЛОНа. Кем он был на воле —не знаю. Был
он всегда в хорошем настроении и
«разыгрывал» из себя влюбленного (а может, и в самом деле?) в молодую
женщину, работавшую в Музее. Звал он ее в своих рассказах Душенька. Как была ее фамилия, я не знаю. Он обязательно
рассказывал по вечерам: встретил ли ее на улице, когда вели партию
женщин, или в УСЛОНе, или в том же Музее, куда ему удавалось иногда прорваться,
но не поговорить с ней. Она была красива лицом, носила длинные юбки до пят,
имела синие глаза. Вся камера радовалась, когда ему удавалось видеть ее хоть
секунду. Он смеялся, все смеялись, но
всегда прилично. Когда все в камере собирались пить на ночь кипяток из своих
железных кружек, первый вопрос задавался Афинскому: «Ну, как Душенька?
Удалось ли взглянуть?» Я помню его худое лицо с тонкой иссохшей кожей. Мы с ним иногда поздно вечером ходили зимой
двадцать девятого года на Святое озеро покататься на коньках, сделанных нам на
Мехзаводе из сломанных двуручных пил.
Прекрасные были коньки! Однажды мы
пошли кататься в какой-то черный туман. Мороз был сырой и суровый.
Взявшись за руки, мы разучивали «голландский
шаг». Афинский был в арестантском бушлате. Заболел. Пришлось положить в
лазарет. Я навещал его. Он был чрезвычайно слаб, но улыбался мне и говорил, что выздоравливает. Воспаление легких
наложилось на его извечный
туберкулез. Он умер, и выбросили тело в какую-то заготовленную с осени яму. Наверное — голым: бушлат и
старая его одежда были нужны другим...
Другим нашим сокамерником был генерал Осовский из старой
дворянской фамилии, восходившей, по его ловам, к византийским Палеологам. Мы
в шутку называли его претендентом на
Греческий престол и пытались, смеясь, спрашивать его о «греческих
делах». Шутки как-то не выходили. Он
работал сторожем, а сторожам ничего не давали на квитанцию (нам,
работавшим, давали рублей по девять в месяц, и мы покупали себе компот и селедку в часовне Германа Соловецкого,
превращенной в ларек). У меня была банка сгущенного какао. И когда вечером Осовский садился против меня со своей
кружкой пустого кипятка, я давал ему ложку сгущенного какао. Это не
нравилось «папашке», который неизменно говорил ему, что надо пойти работать на
оплачиваемую должность. Я помню, как получил он письмо от своей матери из
Парижа, в котором она жаловалась на скуку, несмотря на свое увлечение карточной
игрой в покер. Письмо разозлило его страшно. Как может она ему, «мученику»,
жаловаться на скуку, да еще играя в азартную игру по вечерам?! Впрочем, о
своем здоровье он заботился — выходил по утрам до поверки на улицу, раздетый до пояса (вернее — до своих генеральских
брюк с красными лампасами), и
обтирался снегом. В 1929 году его освободили по болезни и отправили в
ссылку.
Еще один заключенный был — барон Дистерло. Вот уж в ком не
было ничего «баронского». Я бы его назвал веселым простым парнем. Часто
хохотал. Был вечно деятельным, подвижным,
неунывающим. Казалось иногда, что он доволен своей жизнью. Отличный
товарищ, всегда готовый помочь другим хотя бы своей физической силой. Был он
тоже, как и Афинский, каким-то счетным работником в УСЛОНе.
Когда освободили Осовского, на его место мы устроили в свою камеру Федю — Эдуарда Карловича
Ро-зенберга. Рассказ о нем должен быть особый. Это был мой ближайший
друг, соделец, «академик» Космической Академии наук, за которую мы все восемь
человек и получили по «пятерке». Хотя я и
не могу утверждать, что именно за это. Следователь Стромин (это его псевдоним) стремился
создать большое дело и все пытался нас объединить с аналогичными кружками — то
с Российской философской академией, куда
входил известный впоследствии
литературовед Дмитрий Евгеньевич Максимов (он был освобожден еще из ДПЗ
без приговора тройки), то с Братством Серафима Саровского, которого, по существу, не существовало (под таким названием на
квартире у Ивана Михайловича
Андреевского было два или три «заседания», а до того у него собирался
«Хельфернак» — Художественно-философско-религиозно-научная
академия), то еще с чем-то и с
кем-то. Приговоров он добился, но объединить нас всех в большое и звучное дело
ему не удалось.
Федя был сыном директора императорской
Петергофской аптеки. Моего возраста. Окончил
Петергофскую гимназию. Но рано должен был зарабатывать на хлеб. Работал в
Петергофе на телеграфе. Знаю только, что у отца его было два сына: мой Эдуард и
Вольдемар — Владимир, которого мы в шутку
называли Володя Розовая Горка
(переводя на русский не только его немецкое имя, но и фамилию). Эдуард переменил свое имя Эдуард на Федор — «законно». Под влиянием Ивана
Михайловича Андреевского, на
заседания «Хельфернака» которого он
ходил вместе со своими друзьями — Владимиром Тихоновичем Раковым и Аркадием Васильевичем Селивановым, он перешел из лютеранства в православие.
Обряд миропомазания (креститься
христианину было не надо — надо было
совершить только миропомазание, часть крещения) совершил впоследствии расстрелянный отец Викторин, человек высочайшей духовности и исключительной красоты, служивший на Петровском острове в
церкви Убежища для престарелых
артистов имени Савиной. Помню, как он
волновался, расшнуровывая ботинки (миром
надо было помазать и ноги), как искренне он молился. В той же церкви у отца Викторина был
иподиаконом и Володя Раков. О его
горестной судьбе я расскажу потом, чтобы
не прерывать рассказа о камере третьей роты.
Благодаря все тому же владыке Виктору, который познакомил меня с Александром Николаевичем Колосовым («папашкой»), заведующим Криминологическим кабинетом, Федор (именем этим назвал его по своей
воле отец Викторин) устроился
счетоводом в Соловецком сельхозе —
там же, где работал и владыка Виктор, которого мы все, молодежь, звали между собой за необыкновенную простоту и
симпатичность просто «владычкой».
Все-таки прерву свой рассказ о третьей роте, чтобы рассказать о владыке Викторе Островидове. Я уже
рассказал о его необыкновенной простоте и ласковости, но он к тому же был и ученый: автор богословских
трудов. Был он не то из Вятки, не то из Вологды. Сергианскую церковь не
признавал и поэтому в монашескую Ону-фриевскую
церковь не ходил (группа монахов, остававшихся на Соловках, признавала главу тогдашней церкви — митрополита Сергия, сотрудничавшего с властью). А был владыка «иосифлянин», т.е.
принадлежал к той гонимой группе
духовенства во главе с митрополитом Иосифом, которая осуждала Советскую
власть за гонения на церковь.
Когда летом двадцать девятого года начальство лагеря издало приказ не носить длинной одежды и
сбрить бороды, владыка Виктор отказался это выполнить. Он сослался,
между прочим, и на то, что сами «вольные» носили
длинные до пят «чекистские» кавалерийские шинели (вспомним памятник Ф. Дзержинскому на Лубянской площади в Москве именно в такой шинели).
«Владычку» насильно остригли, обрили и при этом изранили лицо, кое-как
отрезали длинную одежду, отчего снизу у него болтались
лохмотья. Я встретил его на площади сразу же после экзекуции (он выходил из
11-й карцерной роты) — веселого, как всегда улыбающегося, радостного. Он
не стал долго распространяться рассказом о
том, как производилась экзекуция. Лицо его было подвязано белой тряпкой, и она выглядела, как борода. Так он и
ходил до тех пор, пока у него не отросла небольшая борода (вообще-то она
у него была не густа и не длинна). Я думал:
почему у него такой счастливый вид? И понял... Но чтобы понять, надо
самому быть православным. Именно
православным, ибо когда католики-ксёндзы на Анзере возили для себя воду в бочке на саночках — у них у всех
был вид мучеников, но жили они на Анзере, не принуждаемые
к работе. Аввакум же радовался мукам и мучителей
называл «дурачками».
Впоследствии, когда в массовом порядке
освобождали больных и
старых, владыку Виктора вывезли на материк в ссылку, и там мучился он ужасно: голодал, спал на улице (в дома запрещено было пускать). К тому же — болел. В мучениях и умер.
Возвращаюсь к рассказу о третьей
роте. Виделся я с Федей в
камере редко. Он очень рано уходил на работу и поздно приходил, а я пытался сберечь себя, ложась как только это было возможно раньше: к тому же у меня болела моя язва. В десять часов после нескольких
предупредительных миганий лампочка под потолком гасла. Федя добирался до постели ощупью. Был он, как
немец, очень аккуратен. Над топчаном
его появилась полочка, на которой стояла кружка для кипятка и все
другое. Общались мы записочками, которые
оставляли друг другу. При этом он
все превращал в шутку. Писал он хорошие
стихи. Помню начало одного такого обращенного ко мне стихотворения:
Отощавши вовсе животишком,
Одолжить прошу одним рублишком...
Дальше шли строки, в которых обещалось мне этот рубль вернуть к определенному сроку.
Однажды он принес из Сельхоза себе и
мне сметаны и зеленого
луку. Как это было вкусно! До сих пор люблю сметану
с зеленым луком. А я в свою очередь раза два приносил
в камеру грибы — красные грибы осенью 1929 года. Пользуясь тем, что у меня был
постоянный пропуск и разрешение
«папашки», я ходил в лес и собирал невероятное количество грибов. Брал только красные и подосиновики. И то
только молодые. Однажды у меня не хватило мешка. Я снял рубашку,
завязал рукава узлом и превратил рубашку в мешок. Вечером у нас было пиршество, хотя никаких приправ, кроме соли, у нас не
было. Я ел столько, что у меня заболел живот (все та же проклятая, но
«родная» язва). После Федя постоянно подсмеивался
над моим «обжорством».
Питались мы так. Был в роте дежурный
сторож: контрабандист эстонец Язон. Мы ему
платили, а он приносил нам утром и вечером
медный жбан кипятка. Он же, Язон,
ходил в вольнонаемную столовую и приносил обеды, которые давал нам с
заднего крыльца заведующий из заключенных
Бояр. Хлеб мы получали в общем порядке.
На зиму я накупил еще в ларьке преподобного Германа копченых астраханских
селедок и постное масло. Очистил селедки, нарезал, положил в стеклянную
банку и залил постным маслом. Кроме того, у
меня был запас сухих компотных фруктов, которые я заливал с вечера кипятком. Утром компот был готов. Выручала
все та же большая эмалированная кружка. Хотя я ее и споласкивал, но
покрыта она была изнутри коричневатым налетом
от чая. Однажды я увидел на ней процарапанную по налету надпись: «Моется
только в чае». Только тогда я
догадался, что кружку нужно не только сполоснуть, но и основательно протереть. Впрочем, мне не ясно— причем
тут чай, если пили мы только кипяток? Может быть,
мы называли кипяток чаем? Но тогда откуда налет, который действительно бывает от чая?
Загадок передо мной память оставила много. То я ясно вижу пред собою мельчайшие подробности,
прямо-таки картины, то не помню основного.
В третьей роте по утрам бывали
поверки. Освобожден от
них был только «папашка». Мы выстраивались в коридоре в две или три шеренги и при приходе дежурного по лагерю кричали «здра», пересчитывались,
выслушивали постоянные
нотации командира роты Егорова (перед Егоровым был бывший комендант Петропавловской крепости барон Притвиц, но он нас не обучал порядку). Егоров был строевой офицер, требовал, чтобы
топчаны были аккуратно заправлены, в
камерах — чисто. Заслоненный тюфяком
с соломой, подушкой с сеном, которые мне добыл Федя из Сельхоза, висел у
меня серебряный складень, который дали мне
при прощальном свидании мои родители.
Складень у меня быстро пропал: взял его Егоров («не положено»). Вернуть себе его я не смог («не положено, не положено!»).
По-своему Егоров заботился о роте. Устроил однажды лекцию А. А. Мейера, устроил «красный уголок»,
но нравоучения на поверках читал
долгие и нудные.
По воскресеньям на площади перед
Преображенским собором с
северной стороны устраивались генеральные поверки. Происходили они мучительно долго. Над головой у нас летали летом огромные соловецкие чайки, иногда
«мстившие пометом» за разоренные гнезда, т.е. метко
испражнявшиеся на людей, стараясь при этом попасть в лицо.
Теперь мне бы хотелось рассказать о
Криминологическом кабинете («Кримкабе»), куда
я попал с нар 13-й роты благодаря отцу
Николаю Пискановскому, рекомендовавшему
меня Бахрушину и Александру Николаевичу Колосову. Мы помещались в здании бывшей монастырской гостиницы,
стоявшей на пристани в бухте Благополучия. К этой пристани подходил и
от нее отходил пароход «Глеб Бокий», на борту которого еще оставались остатки надписи «Соловецкий». Теперь вместо
паломников он привозил в своем трюме
обреченных на горе и смерть, а в палубных каютах — таких действительно
благополучных людей, как Максим Горький со снохой или высокопоставленных членов всевозможных комиссий— будущих жертв самими ими взращенных палачей.
На третьем этаже этой гостиницы, где
располагались учреждения Управления
Соловецких лагерей особого назначения
(УСЛОН), нашел себе комнату и Криминологический кабинет — вместе с гостиной Соловецкого музея — одного из притягательных центров всей
соловецкой интеллигенции.
Сперва он размещался в угловой комнате
(если идти по
гостиничному коридору, поднявшись по лестнице по направлению к морю, то это была последняя комната направо, выходившая в сторону, противоположную
пристани). В ней уже работал
молодой человек из Ростова-на-Дону
Владимир Сергеевич Раздольский и другой молодой человек Александр Артурович Пешковский (родственник известного лингвиста, специалиста по
русскому синтаксису). Оба были
интеллигентные люди, любители поэзии,
знавшие на память множество стихов. Благодаря им у нас в Кримкабе постоянно
слышались не только стихи, но велись и литературные разговоры. С уст не сходили имена Пастернака, Блока, Мандельштама,
Всеволода Рождественского (он в те
годы был «в уровень» с Пастернаком и
Мандельштамом), приходили Юрка Казарновский,
Лада (Лидия Михайловна Могилянская), Шипчинский, Борис Брик, Володя Свешников
(печатался он под фамилией своей матери, польки, Кемецкий, так как, живя в эмиграции, возненавидел своего
отца — полковника Белой Армии,
запрещавшего ему возвращаться в Россию). Из всех этих молодых поэтов самым талантливым, изумительно талантливым, был
несомненно Володя Свешников. В иных
условиях ему принадлежало бы великое
будущее. Работал он в соловецкой Библиотеке в Кремле (от входа во вторые ворота направо — там же, где и
Солтеатр) вместе с тройкой лихих библиотекарей: Кохом, Б. Бриком и Гречем и
еще одним заключенным — Новаком. Первый был член немецкой компартии (все зубы у него вышибли на допросах), второй —
поэт из Ленинграда, третий (потомок знаменитого Греча пушкинской поры) — член краеведческого общества
«Старая усадьба», а Новак — член венгерской компартии. Все эти люди помогали Володе Свешникову, отличавшемуся не только полной неприспособленностью к жизни, но и опасными взрывами ярости — иногда по пустякам.
Это была молодая компания. Компания постарше возглавлялась «папашкой» Колосовым, сидевшим обычно в самом крайнем углу комнаты, но постоянно
выходившим по делам к лагерному
начальству, а в перерывах этой
тяжелой (в самом деле) работы читавший Тургенева, иногда французские книги, держа в поставленной на
локоть правой руке карандаш, на тот
случай, чтобы внезапно открывшее
дверь лагерное начальство увидело бы его как бы пишущим, а не «бездельно» читающим. Половину своего времени отдавал Кримкабу работавший в
лазарете Иван Михайлович
Андреевский. Когда Андреевского увезли с Соловков по вызову следователя
Стромина, мечтавшего создать большое,
«красивое» академическое дело,
которое позволило бы властям иметь предлог распустить старую Академию
наук и создать новую, Андреевского сменил
юрист и массажист Александр Александрович
Бедряга (занятие массажем Бедряга совмещал на воле с адвокатурой для заработка).
В какой-то момент 1929 года в стенах Кримкаба появился
старый революционер и философ Александр Александрович
Мейер — глава известного петроградского кружка «Воскресенье» (об этом кружке
см. в воспоминаниях Н. П. Анциферова
и многих других). Это был не только
человек необыкновенной образованности, но оригинально мысливший, постоянно проповедовавший свои воззрения
философ. С его появлением стала к нам в Кримкаб
заходить его первая жена Ксения Анатольевна Половцева, приносившая ему еду в
каких-то маленьких кастрюлечках. Об
А. А. Мейере и К. А. Половцевой должен
быть особый раздел в моих воспоминаниях. Жизнь Мейера состояла не во внешних
событиях (их, конечно, было у него, как у старого революционера, много),
а в борьбе с самим собой, в сменах своих
взглядов, в росте этих взглядов, в
постоянных философских спорах с окружающими,
а их было в нашем кабинете и с приходившими к нам предостаточно: Александр Петрович Сухов — профессор педагогического института им. Герцена,
Гавриил Осипович Гордон, Павел
Смотрицкий (художник), скульптор
Аносов, а главное — Юлия Николаевна Дан-зас, доктор Сорбонны, статс-фрейлина государыни Александры
Федоровны, уральский казак во время первой мировой
войны, ученый секретарь Дома Ученых у Горького, автор многих книг — и
до Соловков, и после ее освобождения
Горьким и отъезда в католический монастырь на юге Франции. Но о ней
должен быть особый очерк, хотя кое-что есть
и в эмигрантской литературе. С Юлией
Николаевной Данзас мы работали в одной комнате не менее двух лет, но
работала она сама по себе, составляя
вырезки из газет на разные темы для лагерного начальства. Благодаря
этому мы могли читать, хоть и с запозданием,
различные газеты (какие именно, не помню).
Заходили в Кримкаб
Ширинская-Шихматова (светская беседа с ней
очень занимала А. Н. Колосова), редактор Дома
Книги в Ленинграде Щурова, уже упомянутая Лада Могилянская (Лидия Михайловна, поэтесса из окружения Коцюбинского в Чернигове), так и сгинувшая в
лагерях; ведший до революции светскую хронику в парижских и петербургских газетах Дмитрий Янчевецкий. Он был нашим
единственным сотрудником на Анзере. Он был стар,
и работа в Кримкабе просто продлевала ему жизнь.
Прочтя это все о Криминологическом
кабинете, кое-кто скажет: «Устроились лентяи!»
Нет, Кримкаб делал много хорошего. Конечно, он был создан начальством для
ширмы: чтобы показать, что у нас на Соловках не наказывают, а перевоспитывают. По-лагерному идея Кримкаба была
«туфтой». Однако, если бы не было Кримкаба,
не удалось бы спасти очень и очень многих: и «вшивок», и интеллигентных людей для будущей жизни за пределами
Соловков. И работа в Кримкабе порой была
очень тяжелая.
Поведу свой неторопливый рассказ о том, что же делал Кримкаб под руководством А. Н. Колосова.
Когда Мельников устроил меня в третью роту в камеру к А. Н. Колосову, я еще едва волочил ноги, и у меня
было двухнедельное освобождение от
работы. Но в конце первой недели А.
Н. Колосов попросил меня начать помогать
бурно развивавшейся деятельности Кримкаба.
Первый мой большой выход за стены Кремля был в сильный
ветер и мороз. Свежий воздух после затхлой камеры
опьянял. Я чувствовал большую слабость. Едва я вышел из-под Никольской башни, направляясь в У СЛОН, меня чуть
не сдуло в ров. Дорожки было две. Опасная дорожка шла снаружи рва, она сильно
обледенела, и устоять в моих бурках на
кожаных подошвах было очень трудно. Бурки мне были сшиты еще в голодные
годы в Петрограде из бобрика (не знаю —
почему такое название было у нас в семье для большого зеленого ковра без всяких рисунков, лежавшего у нас в гостиной) с
кожаной «обсоюзкой» и кожаной, всегда скользкой подошвой. Другая дорожка, еще монашеская, шла между стеной
и рвом и заканчивалась пешеходным
мостиком с перилами, которого сейчас уже нет. Потом уже я пользовался только этой внутренней дорожкой. Мостик исчез, и
восстановить его не догадываются.
На этой дорожке у стены с красно-оранжевым, очень красивым лишайником я снят в фильме «Лихачев. Я вспоминаю». Там я стою в
задумчивости. И в самом деле, мог
ли я подумать в те времена, что вернусь туда через 60 лет с лишним. Одним
словом, я все-таки дошел до
Кримкаба, где работа и в самом деле кипела. Надо было к весне
организовать кабинет так, чтобы он выглядел
как серьезное научное учреждение, и Детскую
трудовую колонию на 200—300 подростков обоего
пола, где бы они «перевоспитывались». Почему была нужда в этом — объяснилось потом. А пока строились приличные бараки, возводилась школа, и мы
изобретали форму для трудколонистов.
Все эти постройки, за исключением
одной-двух, и до сих пор стоят к югу от Кремля. Были еще хорошие плотники из
заключенных...
На Квасоваренной и Поваренной башнях
Кремля воздвигались шатровые кровли. На них и
до сих пор крутятся железные флюгера с датой
«1929».
В строительных работах и устройстве
обмундирования энергичное участие принимал поволжский немец Линденер. К
услугам Кримкаба были привезены из кладовых
царской каторги сшитые из солдатского сукна арестантские
бушлаты и штаны. Но совсем не годились круглые
арестантские шапки. Уж очень эти шапки придавали обладателям их «каторжанский» вид. Линденер предложил их перешить — сделать козырьки,
наушники. С работой справился Помоф.
С тех пор шапки эти стали называть
«линденеровками».
В линденеровках подростки, одетые в
добротные бушлаты
каторжан царского времени, имели вполне приличный вид.
В кабинете меня сразу засадили за работу. Я писал какие-то докладные записки (помню одну —
начальнику Культурно-воспитательной
части Д. В. Успенскому), но проекты
моих записок не нравились А. Н. Колосову: они были написаны просто и,
как мне казалось, понятно, а надо их было писать канцелярским языком, которым я
вовсе не владел («как явствует из
нижеследующего», даже «поелику» и «поколику»).
Тогда меня посадили помогать фальшивомонетчику
Дуботолкову (он на воле подделывал
червонцы, рисуя их простым карандашом — подлинные были как раз
«карандашного» цвета). Дуботолков (он вполне оправдывал свою фамилию)
срисовывал из атласа профессора психиатрии
Россолимо (кажется, так писалась его
фамилия) большие таблицы тестов для развешивания их на стенах Кримкаба.
Эта работа шла у меня лучше. Атлас
Россолимо и кое-какие другие книги, а также аппаратура для измерения емкости
легких, силы кисти, роста и т.д. были выписаны по советам И. М. Андреевского и
быстро доставлены в Кримкаб.
Работа кипела. Почему должна была
кипеть — никто из заключенных не знал. Когда я
окреп, мне было дано поручение (и оно
оставалось затем за мной долго — не менее
года): собирать подростков для Детколонии, которую в конце концов было приказано именовать Трудко-лонией.
Мотивировалось такое выделение подростков тем, что их необходимо было
изолировать от влияния профессиональных воров, взрослых и воспитывать — давать им образование и профессию.
Этой своей работой по спасению из лап
смерти сотен подростков я горжусь. Я обходил
закоулки общих рот, записывал анкетные
данные на подростков и даже краткие их автобиографические рассказы. Впрочем,
некоторые рассказы были и длинными: целые романы. Меня спросил кто-то
из подростков: «Зачем вы записываете, ведь мы вам все врем». Я ответил ему:
«Знаю, но мне интересно». Мне и в самом деле было интересно: как воришки оправдывают свое воровство. Нет
преступника, который бы не имел в душе
самооправдания. В основном психология преступников пессимистична. С тех
пор я остерегаюсь пессимистов даже в быту.
Пессимист может быть потенциальным
преступником, может быть стукачом-сексотом, может пойти на все: «Ах,
что там: все такие!»
Вновь волна жалости захлестнула меня, как в 13-й роте. Я ведь и ходил туда, в эту проклятую роту,
постоянно. Потом я ездил в «командировки» — на торфо- и лесозаготовки. Был в Савватиеве, на Секирной, в
Филимонове, объездил Анзер. Не был только на Зайчиках.
У меня набрались сотни анкет, по
которым Адмчасть вызывала
в Трудколонию. Условия, в которых жили подростки
в лесу и в 13-й роте, были ужасны. Они бы не прожили
там и нескольких месяцев. А жизнь человека — абсолютная ценность, как бы ничтожен и плох он ни был.
Снова повторю: я горжусь тем, >что спас многих.
Некоторых подростков, особенно в 1930 году, из семей раскулаченных (родители
стремились отправить своих детей к
знакомым, и этих детей приговаривали к заключению в концлагерь), мне
удавалось спасти прямо из Пересыльного
пункта, который был построен около Бани № 2 (о ней я писал выше).
В этот короткий период
«перевоспитательной лихорадки»
возродился и журнал «Соловецкие острова». Вышли не все номера, но кое-что все-таки удалось напечатать под рубрикой «Из работ Криминологического кабинета».
До отъезда Управления лагеря в Кемь
огромную (не побоюсь этого слова) роль в жизни
Соловков играл Борис Глубоковский. По
слухам, он был сыном известного богослова, эмигрировавшего после
революции и читавшего лекции на Теологическом
факультете Софийского университета
имени Климента Охридского. В прошлом он был актером Камерного
(Таировского) театра в Москве. Высокого роста, сравнительно молодой, деятельный, легко вступавший в общение с разными
людьми- от воров и лагерного
начальства до высокой интеллигенции,
он фактически стоял во главе Соловецкого
театра и теплившейся в недрах всяческой «туфты» культурной жизни лагеря.
Театр на Соловках был создан для того,
чтобы создавать иллюзию
воспитательной работы. Создан для «туфты», но служил очень важным психологическим отвлечением для массы заключенных. Попасть на
его представления было
очень трудно, но зато ходили рассказы о его спектаклях, представлениях — часто веселых. Шутка, смех, анекдоты помогали переносить
тяжесть и грубость режима. Грубость сверху нейтрализовалась смехом снизу, если только, конечно, грубость не
была простой физической расправой — тогда
помогал только лазарет или ...«16-я рота»!
Глубоковский внес в деятельность
Солтеатра непосредственность
Камерного театра. Ему принадлежала замечательная постановка «Соловецкое обозрение», где лагерная жизнь со всеми ее
фантастическими контрастами освещалась и с шуткой, и с лирической грустью, и нотами трагичности. «Обозрение», сочиненное и
поставленное Глубоковским,
безумно нравилось заключенным и даже начальству. Странно, что в обозрении было
такое, за что посадили бы
на воле. Когда весной приезжала на Соловки «разгрузочная комиссия» (Бокий, Катанян, Буль и др.),
«Обозрение» показывали и ей вместе с местным
начальством. Рассказывали, что Глубоковский
вышел однажды на сцену в середине
представления и, грозя кулаком в
зал, сказал актерам: «Пойте так, чтобы и этим сволочам тошно было». И ничего
ему за это не было: Глубоковский был
явно пьян, а пьяницы на Соловках пользовались «пониманием» и симпатией начальства.
Приведу и такой пример отношения к
пьяницам. Сменивший А.
Н. Колосова на посту заведующего Кримка-бом Александр Александрович Бедряга уже после моего
отъезда на Медвежью Гору напился пьяным у дружков в Пожарной команде, надел пожарную каску и прочую амуницию, пришел в Театр во время антракта и
крикнул: «Пожар!» Поднялась паника, вовремя потушенная. Когда начальство узнало, что Бедряга был пьян, дела
никакого не возбудили: «Пошутил,
молодец, рубаха-парень». Другой раз Бедряга забрался (через забор) в
царскую колокольню и позвонил в колокол.
Опять дела никакого не возникло. Правда, при мне еще он сел в карцер за
пьянство, и посадка эта принесла Кримкабу некоторые выгоды, но Бедрягу быстро выпустили. А выгоду принесло такую. От Бедряги стали при всех уголовниках
требовать ответа: «Откуда брал водку?» Бедряга упорно отказывался ответить, и после, когда Бедрягу
выпустили, воры стали охотно
рассказывать о себе и ему, и мне.
Возвращаюсь к «Соловецкому обозрению».
Состояло оно из нескольких номеров, называлось еще и по-другому — «Соловецкие огоньки», — по песне,
которой заканчивалось.
Сюжетом песни служило будущее прощание с Соловками. Песня распространилась и за
пределами лагеря.
Декорация, изображавшая монастырь, погружалась во тьму, и во тьме вспыхивали огоньки — свечки, горящие в бумажных фонариках.
От морозных метелей и вьюг
Мы, как чайки,
умчимся на юг,
И вдали промелькнут огоньки:
Соловки, Соловки, Соловки!
После отъезда Глубоковского с УСЛОНом
на материк — в Кемь,
прервался и журнал «Соловецкие острова». Год
или два он не выходил. Потом Глубоковский приезжал
на Соловки из Кеми. Я свиделся с ним на улице недалеко от Сторожевой башни. Он попросил меня дать еще одну статью для журнала (одна — «Картежные
игры уголовников» — уже была в редакции и была затем напечатана в № 1 за
1930 год), но я не смог. Что-то с темой о
«самооправдании воров» у меня не получилось.
Весной в белую ночь мне удалось
посмотреть «Соловецкое обозрение». Впечатление было огромное. Почему я говорю в «белую» ночь? Мне
запомнилось, как мы все вышли
из погрузившегося во тьму театра (свет долго не зажигали после последней сцены мелькающих вдали огоньков) и нас встретило
удивительное небо — светлое и вместе с тем какое-то «папочное», бумажно-голубое. В сочетании с белыми зданиями, недвижным воздухом, затихшими
криками чаек (в белую ночь чайки все же спали)
— все это было необыкновенно, казалось нереальным, каким-то сном.
Атмосфера нереальности, невозможности того, что происходит, была разлита во всем, в белых ночах
летом и черных днях зимой, в невозможности всего того, что происходило, в массе людей психически
ненормальных, в ненормальности
начальства, в фантастичности приезда Горького
и последовавших затем событиях.
В Солтеатре были и другие постановки. Я помню «Маскарад»
Лермонтова. Арбенина играл Калугин — артист Александрийского театра в
Петрограде, уровня Юрьева. Дублировал
Калугина Иван Яковлевич Комиссаров — король всех урок на островах. В
прошлом — бандит, ходивший «на дело» во главе
банды с собственным пулеметом,
грабивший подпольные валютные биржи,
ученик и сподвижник Леньки Пантелеева. Его Арбенин был настоящим барином.
Что еще шло в Солтеатре, не помню. Были и киносеансы. Помню фильм по сценарию Виктора Шкловского, где двигались броневики через Троицкий мост в
Петрограде. Ветер нес какие-то
бумаги. Были и концерты, на которых актеры из урок ловко отбивали
чечетку, показывали акробатические номера
(особенным успехом пользовалась пара — Савченко и Энгельфельд). Оркестром дирижировал Вальгардт — близорукий дирижер
из немцев, впоследствии
дирижировавший оркестром в Одессе и
еще где-то, получивший даже какую-то государственную премию. Была актриса, истерическим голосом читавшая
«Двенадцать» Блока. Была хорошенькая певица
Переведенцева, певшая романсы на слова Есенина (помню — «Никогда я не
был на Босфоре») и нещадно изменявшая мужу,
работавшему в Кремле и пытавшемуся покончить с собой в одной из рот. В
фойе театра читались лекции по истории
музыки профессором армянином Анановым.
До ареста он работал в театре Руставели,
сотрудничал в «Заре Востока». Лекции по психологии читал А. П. Сухов. И еще кто-то и о чем-то.
Но театр так жил только зимы 1930—1931
годов. Затем началась
эпидемия азиатского тифа, театр был обращен в лазарет,
где вповалку лежали люди почти без помощи. Азиатский
тиф сопровождался появлением на теле каких-то черных пятен, и некоторые шепотом говорили, что это самая настоящая чума, занесенная из Средней Азии
такназываемыми «басмачами». Эпидемию
не знали, как лечить. Когда в
камере появлялся больной, то камеру просто запирали и ждали, пока она
вся вымрет. Так умер мой знакомый молодой писатель. Он написал роман «Юг и
Север» (а может быть, «Север и Юг»). Я потом, по освобождении, искал этот роман, но не нашел. Он просунул мне под дверь чайную ложечку и просил передать
ее его жене. К моему удивлению, весной жена приехала (разрешили!) на могилу, но, конечно, могилы не
нашла, не нашла и ямы, в которую его
бросили, ибо ям таких было много, но
серебряную ложечку я ей передал.
Я сильно забежал вперед, отчасти нарочно, чтобы показать,
что «соловецкое счастье» было намеренным обманом. Ибо весной к нам на Соловки
приехал Горький. Пробыл он у нас дня три
(точнее я не помню — все это легко установить по его собранию сочинений,
но я этим заниматься не хочу).
Дело в том, что от соловецких
беглецов (бежали и по льду в Финляндию, и на
кораблях, возивших лес) на Западе
распространились слухи о чрезвычайной жестокости на наших лесозаготовках, и ряд правительств отказались у
нас покупать лес. Лагеря стали убыточными, и надо
было уверить Запад, что жестокостей у нас нет, что мы исправляем, а не наказываем заключенных. Для
этого и понадобились все те
показушные предприятия, в которые
мы все в Кремле оказались так или иначе вовлечены.
Кто-то с Запада приезжал в Кемь, но до
Соловков не доехал. Нам
были поставлены условия: иностранные журналисты
должны свободно ездить и смотреть. На материке
«чистились» как могли. Приехали журналисты и парламентарии, ездили по
лесозаготовкам и многое сфотографировали, особенно когда на тракте Кемь — Ухта у них сломался автомобиль. Надо было лишить
их «доказательств». Вызвались
карманники, устроили давку у
«представителей Запада», в результате которой обчистили их карманы,
украли записные книжки и срезали фотоаппараты.
Вот тогда-то и согласился успокоить общественное мнение Запада почтенный наш писатель Алексей Максимович
Горький. Кто говорит, что своим враньем он хотел
вымолить облегчение участи заключенных, а кто, чтобы вымолить приезд к себе Будберг-Закревской, отказавшейся вернуться вместе с ним в Россию. Не знаю
— какая из версий правильна. Может быть, обе. Ждали с нетерпением.
Наконец с радиостанции поползли слухи: едет на Соловки
Горький. Тут уж стали готовиться не только начальники,
но и те заключенные, у которых были какие-то связи с Горьким, да и просто те, кто надеялся разжалобить Горького и получить освобождение.
В один прекрасный день подошел к
пристани «Глеб Бокий» с Горьким на борту. Из
окон Кримкаба виден был только пригорок, на
котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой. За Горьким
приехала монастырская коляска с Бог знает откуда добытой лошадью. А особа была в кожаной куртке, кожаных
галифе, заправленных в высокие
сапоги, и в кожаной кепке. Ею оказалась
сноха Горького (жена его сына Максима). Одета она была, очевидно, по
его мнению, как заправская чекистка. Наряд
был обдуман. На Горьком была кепка, задранная
назад по пролетарской моде того времени.
Мы все обрадовались, все заключенные.
Горький-то все увидит,
все узнает. Он опытный, и про лесозаготовки, и
про пытки на пеньках, и про Секирку, и про голод, болезни, трехъярусные нары, про голых и про «несудимые сроки»... Про все-все! Мы стали ждать. Уже за
день или два до приезда Горького по
обе стороны прохода в Трудколо-нии
воткнули елки. Для декорации. Из Кремля каждую ночь во тьму соловецких
лесов уходили этапы, чтобы разгрузить Кремль и нары. Выдали чистые халаты в лазарете.
Ездил Горький по острову со своей
«кожаной» спутницей немного. В первый, кажется, день пришел в лазарет. По обе стороны входа и лестницы,
ведшей на второй этаж,
был выстроен «персонал» в чистых халатах. Горький
не поднялся наверх. Сказал «не люблю парадов» и повернулся к выходу. Был он и в Трудколонии. Зашел в последний барак
направо перед зданием школы. Теперь это крыльцо снесено и дверь забита.
Я стоял в толпе перед бараком, поскольку у
меня был пропуск и к Труд-колонии я
имел прямое отношение. После того как Горький зашел, — через десять или
пятнадцать минут из барака вышел начальник
Трудколонии командарм Иннокентий
Серафимович Кожевников со своим помощником Шипчинским (сын белого генерала). Затем вышла часть колонистов. Горький остался по его требованию один
на один с мальчиком лет
четырнадцати, вызвавшимся рассказать Горькому «всю правду» — про все пытки,
которым подвергались заключенные на физических работах. С мальчиком Горький оставался не менее сорока
минут (у меня были уже тогда карманные серебряные часы, подаренные мне отцом перед самой первой мировой войной и тайно привезенные на остров при первом
свидании). Наконец Горький вышел из барака, стал ждать коляску и плакал
на виду у всех, ничуть не скрываясь. Это я
видел сам. Толпа заключенных ликовала: «Горький про все узнал. Мальчик ему все
рассказал!»
Затем Горький был на Секирке. Там карцер
преобразовали: жердочки вынесли, посередине поставили стол и положили газеты. Оставшихся в карцере
заключенных (тех, что
имели более или менее здоровый вид) посадили читать. Горький поднялся в карцер и, подойдя к одному из читавших, перевернул газету (тот
демонстративно держал ее
вверх ногами). После этого Горький быстро вышел. Ездил он еще в Биосад — очевидно, пообедать или попить чаю. Биосад был как бы вне
сферы лагеря (как и Лисий
питомник). Там очень немногие специалисты жили сравнительно удобно.
Больше Горький на Соловках, как я
помню, нигде не был. Он
со снохой взошел на «Глеба Бокого» и там его уже развлекал специально подпоенный монашек из тех, про которых было известно, что выпить
они «могут».
А мальчика не стало сразу. Возможно — пока даже Горький еще не отъехал. О мальчике было много
разговоров. Ох, как много. «А был ли
мальчик?» Ведь если он был, то почему
Горький не догадался взять его с собой? Ведь дали бы его...
Но другие последствия приезда
Горького на Соловки были
еще ужаснее. И Горький должен был их предвидеть.
Горький должен был предвидеть, что
будет сделана попытка свалить все «непорядки»
в лагере на самих заключенных. Это
классический способ уйти от ответственности. Сразу после отъезда Горького
начались аресты и стало вестись следствие.
Но прежде чем перейти к трагическим
обстоятельствам нового (но не последнего)
«дела», расскажу о том, что случилось на пристани Попова острова (Острова трудящихся), к которому раньше ожидаемого срока
пребывания Горького на Соловках неожиданно подошел
«Глеб Бокий». Там работала на ветру группа заключенных
грузчиков в одном белье. Спрятать на этой голой пристани голых людей было совершенно некуда. Командовавший
заключенными нарядчик приказал им сомкнуться
как можно теснее и присесть на корточки. Затем накрыл всех брезентом —
будто это груз, укрытый от дождя. Так они
там и сидели. Впрочем, некоторые говорят, что случай это был не по пути
«оттуда», а по пути «туда» и пароход
довольно долго не отходил.
Лето 1929 года было теплым и прекрасным. Шли этапы, к
которым надо было быть готовым. Я научился
уже давно держать вещи готовыми к вызову: «Вылетай пулей с вещичками!» К осени аресты стали расти. Арестовали
Сиверса, Готерон де Ла Фосса, арестовали моего знакомого с Сортоиспытательной
станции (теперь на ее месте аэродром), но главные аресты пришлись на октябрь
месяц. Арестовали Георгия Михайловича Осор-гина
— делопроизводителя Санчасти, освобождавшего от тяжелых работ многих
интеллигентов. Помню его отлично.
Бравый блондин среднего роста с круглой шапкой чуть-чуть набочок («два
пальца над правым ухом — три над левым»). Часто он ходил в мороз с открытой
головой. Всех, кого арестовывали, уже не выпускали, они были обречены. Неожиданно к Георгию Михайловичу
приехала жена на свидание, Голицына.
Под честное слово (были ж такие
времена!) его выпустили из карцера. Затем приказали ему уговорить жену уехать на два или три дня
раньше. Он это сделал. Жене он не
сказал, что будет расстрелян. В день расстрела арестовали (добавили к списку)
Багратуни, Гацука и Грабовского —
всех троих на Спортстанции. Я перечислил немногих из своих знакомых —
тех, кого помню.
28 октября по лагерю объявили: все должны быть по своим ротам с такого-то часа вечера. На работе
никто не должен оставаться. Мы
поняли. В молчании мы сидели в своей камере в третьей роте. Раскрыли
форточку. Вдруг завыла собака Блек на Спортстанции. Это выводили первую партию
на расстрел через Пожарные ворота. Блек выл, провожая каждую партию. Говорят, в
конвое были случаи истерик. Расстреливали два франтоватых (франтоватых по-лагерному) с материка: начальник войск Соловецкого архипелага Дегтярев и наш
начальник Культурно-воспитательной части Д. В. Успенский. Про Успенского
говорили, что его загнали работать на Соловки, чтобы скрыть от глаз людей: он
убил своего отца (по одним сведениям,
дьякона, по другим — священника). Срока он не получил никакого. Он
отговорился тем, что «убил классового врага». Ему и предложили «помочь» при
расстреле. Ведь расстрелять надо было 300 или 400 человек. Часть расстреливали на Секирке.
С одной из партий получилась «заминка»
в Пожарных воротах. Высокий и сильный
одноногий профессор баллистики Покровский (как говорят, читавший лекции в
Оксфорде) стал бить деревянной ногой конвоиров. Его повалили и пристрелили в
Пожарных воротах. Остальные шли безмолвно, как завороженные. Расстреливали
прямо против женбарака. Там слышали, понимали — начались истерики. Могилы были
вырыты за день до расстрела. Расстреливали палачи пьяные. Одна пуля — один человек. Многих закопали живыми, слабо
присыпав землей. Утром земля над ямой шевелилась.
Мы в камере считали число партий, отправляемых на расстрел, — по вою Блека и по вспыхивавшей
стрельбе из наганов.
Утром мы пошли на работу. К этому времени наш Кримкаб был уже переведен в другое помещение — комнату
налево от входа рядом с уборной. Кто-то видел в уборной перед умывальником
Успенского, смывавшего кровь с голенищ сапог. Говорят, у него была приличная жена...
У Осоргина, как я уже писал, тоже была жена. Я ее помню, мы
встретились у Сторожевой башни, Георгий Михайлович меня представил, — брюнетка,
выше его ростом. Какую надо было иметь выдержку, чтобы не сказать жене о своей обреченности, о готовящемся!
А Блек убежал в лес. Он не пожелал жить с людьми. Его
искали. Особенно искали Успенский и начальник войск Соловецкого архипелага
латыш Дегтярев по прозвищу «главный
хирург» (он обычно расстреливал одиночек под колокольней). Однажды я
видел его бегающим в длинной шинели в толпе
заключенных с «монтекристом» и стреляющим в собак. Раненые собаки с визгом разбегались. Полы длинной чекистской шинели хлопали по
голенищам. После той ночи с воем Блека Дегтярев возненавидел собак. А за камень, пущенный в чайку,
заключенного чуть ли не
расстреливали.
В следующем, 1930 году, над Соловками
грянуло новое несчастье.
Впрочем, могло ли произойти что-то «новое» в том фантастическом кошмаре, в который были погружены Соловки?
Однажды утром летом 1930 года в кабинет явился
подросток-колонист и вручил A.M. Колосову большой сверток.
Развернув его, Колосов побледнел и долго сидел в задумчивости. Наконец
он попросил сходить вниз, где размещалась с
монастырских времен типография, и пригласить к себе заведующего —
Молчанова. Молчанов пришел. Помню, что первое время они- тихо говорили между собой, читая и разглядывая большой лист ватманской бумаги. Затем к совещанию пригласили всех
сотрудников. Лист ватманской бумаги оказался манифестом о вступлении на всероссийский престол Иннокентия I Серафимовича
Кожевникова. Обещалась амнистия всем заключенным,
предлагалось захватить соловецкие суда, захватить Кемь и двигаться на
Петроград.
Что делать? Шутка угрожала жизнью всем, кто прочел этот
«манифест», — включая мальчишку. Решили, впрочем, сбегать к Кожевникову и
узнать — в чем дело. Пошедший вернулся: Кожевников поверку в Труд-колонии не
принимал. Его нет, нет Шипчинского, окно в их комнате открыто. Тогда с
выражением страдания на лице (он
действительно страдал морально) Колосов поднялся и вместе с Молчановым
пошел в ИСЧ, одна из комнат которой помещалась на втором этаже здания УСЛОНа. А
весь лагерь уже кипел. Слухи не ползли — летели.
Говорили — к берегам острова подошла миноноска и взяла Кожевникова на
борт. Начались поиски. Никто не сомневался, что это хорошо организованный
побег. Кожевников решил даже посмеяться над начальством, «издав» манифест.
Весь лагерь ликовал. Но вот дошел слух: Кожевников и Шипчинский пытались убить
часового у порохового склада, стоявшего в поле справа от Филимоновской дороги. Значит они не бежали, скрываются на острове!
Каждый день поступали сведения: видели!
не видели! Следы их
пребывания обнаружены там-то. Напряжение в лагере было страшное. Примерно через две недели обоих захватили. Они сопротивлялись у какой-то елки, под которой
жили. Был у них топор. Отбивались топором. Приказ был — захватить живыми. Помню отлично чей-то крик: ведут, ведут! Мы бросились к окнам Кримкаба. Я ясно вижу. Первым
волокут в бессознательном состоянии Кожевникова. Волокут под руки. Ступни ног выворочены, тащатся по мосткам,
ведущим прямо на второй этаж УСЛОНа. Голова висит. Лысина в крови. За
ним ведут с выкрученными назад руками
Шипчинского. Он идет гордо, но странно дергаясь. Как шел допрос — не знаю.
Оказалось: Кожевников сошел с ума,
Шипчинский же решил его не покидать. Жили они
в лесу (уже была осень). Хлеб им давал «ковбой» Владимир Николаевич Дегтярев, живший в Дендрологическом питомнике.
Этот мужественный человек был невысок, ловок. У него были ковбойские
перчатки и ковбойская шляпа. Когда-то он учился в гимназии Мая в Ленинграде (в
«моей» гимназии). Решил бежать в Америку еще до первой мировой войны. После революции вернулся. Поплатился
десятью годами. Он был великолепный чудак. Отказывался ходить в Кремль
пешком. Ему дали козла. Всю дорогу до Кремля (когда ему нужно было туда
явиться) он вел козла, но перед Никольскими воротами садился на него верхом и,
въезжая, выхватывал из-за раструбов своих перчаток пропуск для предъявления
часовому. Почему разрешалась ему вся эта игра — не знаю, но он был совершенно честен. Вероятно, «начальству»
нравились не только пьяницы, но и чудаки. Когда обнаружилось, что он помогал беглецам, я предположил, что его
неминуемо расстреляют. Но нет... Уже после моего освобождения, идя с
работы как-то пешком по Большому проспекту Петроградской
стороны, по которому в те времена ходил трамвай, я изумился: на полном ходу из трамвая выскочил
Дегтярев, подбежал ко мне (с площадки заметил) и сказал, что работает лесничим в каком-то заповеднике в Средней
Азии. С приветственным возгласом: «Привет вам
с (какого-то) Алатау!» — он бросился за следующим трамваем и исчез.
Значит, жив! И я был ему рад как
только мог.
Впрочем, и Кожевников оказался жив. Его видели в Москве, не
то входящим, не то выходящим из Кремля. Сказались,
очевидно, прежние революционные заслуги, заслуги в Гражданской войне. Шипчинского расстреляли и многих с ним. Испуганное начальство решило
прибегнуть к острастке. Начались аресты. Заваривалось какое-то дело о
попытке восстания, но потом и дела не стали стряпать.
Осенью ко мне приехали на свидание родители. Мы жили в
комнате какого-то вольнонаемного охранника (были
охранники и из заключенных), с которым родители познакомились на
пароходе «Глеб Бокий» и договорились с ним
о его комнате за какую-то плату. Комната его была в гостинице, что на
горушке сзади УСЛОНа. Там помещалась и
фотография для вольнонаемных, где меня дважды
в разное время снимали с родителями по разрешению Мельникова, и
лечпункт с главным легпомом Тайбалиным.
Тайбалин, кстати, писал стихи и взял к себе работать не говорившего по-русски старика — «лучшего певца
Старой Бухары». Из окон нашей комнаты, обращенной в сторону Сельхоза, мы
видели, как восточные люди в шелковых
халатах и шелковых сапогах на высоких каблуках беспомощно что-то делали.
Вскоре все эти «басмачи», как их именовало начальство, вымерли, не выдержав ни холода, ни условий работы...
Так вот. Я жил у родителей, аресты
шли. Однажды ко мне
пришли вечером из роты и сказали: «За тобой приходили!» Все было ясно: меня приходили
арестовывать. Я сказал
родителям, что меня вызывают на срочную работу
и ушел: первая мысль была — не при родителях! Я пошел к Александру Ивановичу Мельникову в комнату,
где он жил над шестой ротой и
Филипповской церковью. Стучусь, он не
открывает. Но уйти он не мог. Я стучусь все громче. Наконец Мельников мне
отворяет. Он одет. За столом сидит молодая
женщина — я ее знал, она была схвачена по делу о фальшивых деньгах.
Увидев меня, Мельников успокоился.
Успокоился и сделал мне строгое внушение. Смысл этого
внушения состоял в следующем: «Если за вами пришли, — нечего подводить других.
За вами могут следить». Дверь захлопнулась. Я понял, что поступил плохо. Ведь и
он мог быть подведен под расстрел: схватили же делопроизводителя Санчасти!
Адмчасть была еще более ненавистна ИСЧ
(Информационно-следственной части), готовившей расстрелы, чем Санчасть.
Мельников в прошлом тоже офицер, как и
Осоргин.
Сквозь события этой ночи, вспомнилась мне и еще одна
деталь. Летом приезжала к Мельникову его жена Ольга Дмитриевна, знакомая моей
матери. Они пригласили меня на чай. Я
видел: оба расстроены. Наконец жена спросила
меня, и Мельников подтвердил вопрос: изменяет ли он (Мельников) семье?
Вопрос был для меня неожиданным. Я
совершенно ничего не знал. Решил, что вопрос этот — шутка и решил
ответить шуткой: «Да, надо бы пожаловаться...» и пр. После Мельников сделал мне
краткий выговор: «Не знаете — и говорите, что не знаете». И все-таки глупость
моего ответа, мне кажется, успокоила жену Мельникова: если бы что-то было, я бы
врал серьезно. Все это мелькало в моем мозгу: ведь какого страха натерпелись
оба, Мельников и его любовница, когда я к ним безумно стучался.
Выйдя на улицу, я решил не
возвращаться к родителям, пошел
на дровяной двор и запихнулся между поленницами.
Дрова были длинные для монастырских печей. Я сидел там, пока повалила толпа на
работу, и тогда вылез, никого не удивив. Что
я натерпелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на звезды неба
(больше ничего я не видел всю ночь)!
С той страшной ночи во мне произошел
переворот. Не скажу, что все наступило сразу.
Переворот совершился в течение ближайших суток
и укреплялся все больше. Ночь была только толчком.
Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне нужно
жить насущным днем, быть довольным тем, что я
живу еще лишний день. И быть благодарным за каждый
день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще — так как расстрел
и в этот раз производился для острастки, то, как я узнал, было расстреляно
какое-то ровное число: не то триста, не то четыреста человек. Ясно, что вместо меня был «взят» кто-то другой. И
жить надо мне за двоих.
Что-то во мне оставалось и в
дальнейшем, что упорно не
нравилось «начальству». Сперва я валил все на свою студенческую фуражку, но я продолжал
ее упорно носить до Белбалтлага. Не «свой»,
«классово чуждый» — это ясно.
К родителям я уже в тот день вернулся
спокойный. Не знаю: снялся
ли я с родителями до той ночи или позже. На одной — я сфотографирован с родителями и моим младшим братом, но брата в тот приезд не было. Значит, я там, где нас трое, а не четверо.
И все-таки тяжесть человеческих утрат
меня давила. Особенно
жалко мне было тщедушного Шипчинского — всегда веселого и несгибаемого. Это именно он придумал вывесить над Никольскими воротами
потрясающий всех лозунг. Начальник КВЧ (Культурно-воспитательной части), в которой работал Шипчинский
(Трудколония подчинялась КВЧ), попросил Шипчинского: «Придумай мне лозунг, из которого ясно было бы, что
у нас на Соловках делается
все для социально близких — рабочих и крестьян». Шипчинский выпалил: «Соловки — рабочим и крестьянам». Начальник (все тот же Д. В.
Успенский) ответил: «Во
здорово!» — и приказал писать плакат. Я передаю, конечно, только смысл разговора, о котором
рассказывал Шипчинский.
Возможно, стрелял в затылок Шипчинского именно Успенский.
А у Шипчинского появился перед
расстрелом какой-то роман
с молоденькой хромой балериной (ногу ей перебили на следствии). Им удавалось как-то видеться. После трагической гибели Шипчинского мне
особенно было их обоих
жалко.
В 1929—1930 годах в Кримкабе
проводились беседы, центром которых был Александр Александрович Мейер. Темы бесед я уже забыл. Да и не было
темы: разговоры переливались,
возникали, возобновлялись. Я был в обстановке кружка «Воскресенье», который в Питере возглавлял Мейер, я был в обстановке ВОЛЬФИЛы,
религиозно-философских собраний начала XX века. И все-таки заботы Детколонии возвращали нас
постоянно к лагерной действительности. Можно
ли перевоспитать подростков. Как
перевоспитать? А. А. Мейер склонялся к мысли, что перевоспитать трудом
можно. Он написал статью на эту тему в
«Соловецкие острова». Когда статья вышла, против Мейера восстали многие
из его кружка «Воскресенье», считая, что он
изменил принципу свободы. Для него это было очень тяжело. Он в своей
статье ставил акцент на труде, а его друзья и ученики подчеркивали,
что он говорил в статье о принудительном труде.
Другая тема наших бесед, которую начал
Владимир Сергеевич Раздольский — молодой человек, чуть старше меня, непрерывно дымивший трубкой, которую он почему-то называл «собачкой». В шуме камеры и
суете Кримкаба Раздольский ухитрялся
изучать «Фауста». Из этого чтения постепенно возникла тема культуры. Он
написал и какую-то работу. Мейер на нее отвечал (По-видимому тема «Фауста» в
связи с проблемами культуры занимала А. А.
Мейера и впоследствии — когда он работал в Дмитровлаге. Во всяком
случае, в числе рукописей, сохраненных после его смерти К. А. Половцевой,
значится и такая: „«Фауст» (Размышления при
чтении «Фауста» Гёте)").
1. Не только отвечал, но думал и писал сам. Что-то
сохранилось в его рукописях на эту
тему. Может быть следовало бы разыскать и напечатать — работа тесно
соприкасалась с вопросами культуры. Ксения
Анатолиевна Полов-цева мало
участвовала в этих разговорах. Она успевала приносить еду Александру
Александровичу и спешила назад — на работу. Я был прежде всего слушателем. Юлия Николаевна Данзас вставляла только замечания
— всегда к месту, всегда умные.
Приходил, но редко, Павел Фомич
Смотрицкий.
Я плохо помню зиму 1930/31 года. Колосова сменил на посту заведующего Кримкабом Александр Александрович Бедряга, не обладавший даром личности,
как многие другие кримкабовцы.
Выделялся Александр Петрович Сухов,
сочинявший роман и читавший нам отрывки.
Они не производили сильного впечатления. Прототипом главного героя служил Володя Раков, действие разворачивалось на Петровском острове у отца Викторина
(впоследствии расстрелянного в Ленинграде). Гораздо интереснее были разговоры в Кримкабе вокруг
Александра Александровича Мейера. Юлия Николаевна Данзас умела молчать, но мы узнали — ей все же удалось
подать письмо Горькому. Она ждала.
Приходил веселый и деятельный Михаил
Иванович Хачатуров, все наши поэты. Приходила
Лада Могилянская, спевшая нам песню, подхваченную
ею в женбараке:
Стоит фраер на фасоне
И вся ряжка
в муке.
Ион у сером
балахоне
И у сером колпаке.
Мы к нему эта подходим,
Говорим: «Как
вас звать?»
И у комнату заводим,
Чтоб девчонок показать.
Увидал это Марфушку,
Побелел, точно мел, ...
(забыл строку)...
И конечно запел:
«Ах вы,
милая Марфуша,
Накажи меня Бог,
Положу свою
душу
Я у ваших милых ног.
Без любовной отрады
Невозможно прожить» ...
(забыл) ...
А она на него скесит.
Говорит: «Ги, ги, ги!»
И то голову повесит,
То глазами на вкруги.
«Не могу я быть вашей,
Вашей
верной женой.
Меня любит черный Саша
И Володя, боже ж мой!
Они храбрые
парнишки
И нас с вами найдут:
Вам повыпустят кишки,
Мене морду
набьют.
На мою на могилку
Да никто не придет,
Только ранней весною
Соловей пропоет!»
Пелась эта песнь на мотив «Позабыт, позаброшен». Я часто
ее напевал, и один из молодых шутников поместил в «Соловецком листке» (эта маленькая газетка, в которой печатались
приказы, рецепты от вшей и пр.) заметку: „Сотрудник
Криминологического кабинета Д. С. Лихачев пишет повесть под названием: «Стоит
фраер на фасоне»". A.M. Сухов увлекся в это время одним альбомом воришки, в котором он изобразил в картинках и
стихах свою жизнь. Отрывки из этого
альбома он опубликовал в каком-то издании в Кеми. Я жалел: надо было воспроизвести его целиком. Это был какой-то воровской
Пиросмани, но еще и со стихами,
чрезвычайно выразительными в своей примитивности и неграмотности.
Какой-то XVII век!
Отходил последний пароход (кроме «Глеба Бокого» между Кемью
и Соловками курсировал еще морской буксир «Нева» с баржей «Клара» на прицепе;
впоследствии «Нева» вместе с ее капитаном Пуаре опрокинулась на крутой волне).
К пароходу собирали и тех, кто должен был освобождаться зимой до весенней
навигации. Вызвали и А. Н. Колосова. Мы устроили ему в камере третьей роты
прощание. Все собрались со своей провизией за кружкой
кипятка. Говорились речи. Александр Артурович Пешковский произнес «политическую речь», объявил: «Нам такие люди будут нужны» и пр. Значит, был
уверен, что среди собравшихся нет стукачей или, как их тогда называли, «сексотов». Помню, что я на этом
прощальном вечере расплакался. Я
долго этого потом стыдился, но,
вспоминая сейчас, я вижу, что даже сравнительно со своими сверстниками
на Соловках, я был еще совсем мальчиком.
Может быть, благодаря моей доверчивости и неопытности привыкшего к семейной обстановке мальчика, ко мне и
было такое хорошее отношение—людей совсем
разных. Уезжая, А. Н. Колосов просил меня отнести икону Симона Ушакова (подписную) «Спас Нерукотворный» в фотографию для вольнонаемных и сделать
для него снимки. Мне это не удалось, и до меня доходили слухи, что Александр Николаевич на меня сердится.
Возможно, что А. А. Пешковский
такой снимок и сделал бы. Тут надо
было обходить препятствия.
Весной мне предложили переехать в
«артистическую», седьмую
роту. Бедряга остался в третьей.
Сперва я попал в камеру — бывшую монашескую кладовку. Камера была очень холодной, квадратной,
на четверых. В ней жил армянский
художник Миганаджан, ученик Репина. Камера славилась тем, что лампочка в
ней была обрамлена расписанным акварелью уютным абажуром. Миганаджан был мастером портрета. Помню, что ему принадлежал
портрет старого генерала Эрдели и генерала Генерального штаба Баева.
Красная склерози-рованная кожа лица, светло-желтый фон. Был Миганад-жан
невысокого роста и очень милый. Жили там еще два украинца, певшие украинские
песни. Высокого роста, они явно не помещались на своих топчанах.
Пели «Заповiт» (не знаю
по-украински), про Моро-зенку. Эти вещи я помню.
В этой же камере находился одно время
Володя Свешников (Кемецкий). В камере этой
Свешников написал одно из своих лучших стихотворений, в котором были такие
строки, которые я запомнил:
Отныне жребий мой из кельи сонной
Следить полет прямой и неуклонный Широких туч, катящихся на юг.
Были и еще строки, запомнившиеся мне:
И ветер ходит скорыми шагами
Вдоль ржавых стен угрюмого Кремля.
Стихотворения Свешникова печатались в «Соловецких
островах», но, разумеется, далеко не все. Собрание его сохранившихся стихов и воспоминания о его жизни после освобождения
есть в редакции «Нашего наследия» у В. П.
Енишерлова. Чудом сохранились...
Потом я переехал в камеру, выходившую на двор поверок (чуть
левее), третью справа. Под камерой на втором
этаже находилась музыкантская команда, беспрерывно репетировавшая старые марши
под новыми названиями. Иногда эти марши веселили, но чаще надоедали.
Если бы не работа, на которую я уходил ежедневно, кроме воскресений, пребывание
в ней под звуки бравурных маршей было бы тяжелым. В камере оказались
интересные люди: мой сослуживец из Ростова-на-Дону Владимир Сергеевич
Раздольский-Ратошский, потом тот же Свешников, переехавший на освободившееся
место, а главное, Гаврила Осипович Гордон, член ГУСа (Государственного ученого
совета, профессор всеобщей истории, автор учебника) — человек необыкновенной
учености, ухитрившийся даже в лагерных условиях в дополнение ко всем своим иностранным
языкам изучить арабский, но вечно
попадавший в разные неприятные истории из-за своей несдержанности на
язык (впоследствии он получил второй срок за то, что в период паспортизации сослался на статью о паспорте в первом издании
Большой советской энциклопедии и
сгинул где-то у Рыбинского моря). У
него, как и у А. А. Мейера, у А. П.Сухова, у Ю.Н.Данзас, у
И.М.Андреевского, у А.Н.Колосова, я многому
научился.
Во главе роты был эстонский офицер
Кунст (назначались
начальниками не без юмора — по фамилиям: Кунст во главе артистической роты, Берри-Ягода в Ягодно-сборочной организации, — я уже забыл много таких назначений). По Кунсту седьмая рота называлась
еще Кунсткамерой, что очень ей шло.
Появился в нашей камере и А. И.
Анисимов, занимавшийся
под покровительством Николая Николаевича Виноградова в Музее расчисткой икон (помню большую икону XV века, которую он
расчищал на хорах Благовещенской церкви —
там было хорошее освещение и висели по стенам великолепные акварели Браза —
виды Со-ловков; сам Браз был
освобожден за год до моего появления
на Соловках и уехал в Париж по купленному на валюту паспорту).
Кунст был ошеломляюще находчив. Он
делал все, чтобы спасать
заключенных от неприятностей. Вот один из
примеров его чисто военной находчивости. Я уже писал, что новый заведующий нашим Кримкабом Александр Александрович Бедряга был не дурак выпить.
Зимой водку привозили с риском для жизни поморы из заключенных на больших лодках «почтарках» (на
лодках этих возили почту). Прибытие
на остров почтарок означало — будут
письма, будет водка, хоть и по дорогой цене.
В дни прибытия пьяные были и среди заключенных, и среди вольнонаемных. Первым пил начальник острова Петя Головкин —
пьяница жуткий. Петей его звали заключенные
из симпатии к его страстишке. Впрочем, он был страшен. Страшен, когда, напившись, начинал с азартом искать пьяных по ротам. Он знал, что
почтари привезли водку не только для
него. Пьяным он обходил роты с компанией охранников. Зашел в третью
роту, открыли камеру, в которой когда-то жил я, и застали мертвецки пьяного Бедрягу, лежавшего на топчане,
несмотря на команду: «Смирно!» Петя
спрашивает: «Кто такой?» Дневальный
отвечает: «Больной!» — «Я покажу, какой
больной», — и пошел по другим камерам. А в это время явились мы и на руках вынесли Бедрягу в седьмую роту.
Вернувшись в камеру, Петя обнаружил отсутствие «мертвого тела». Ринулся искать
его по другим ротам и зашел в нашу,
седьмую. Видимо, кто-то донес. Накинулся на Кунста: «У тебя, такой-то сякой, в роте бардак!» Кунст взял
под козырек и веселым голосом бодро отвечает: «Так точно, гражданин начальник,
бардак! Все в порядке!» Петя, которого самого изрядно развезло и который потерял способность соображать, нелепо уставился
на Кунста: «Так все в порядке, говоришь?» Повернулся и ушел. А хотел было и
Кунста заставить пройтись по одной половице (любимая Петина проверка на
трезвость). Впоследствии, переведенный на материк, Петя написал статью в
местную лагерную газету о вреде пьянства. Видно, заставили. Вот была потеха
читать эту статью!
Между тем головами начальства овладевала новая погоня за успехом у Сталина. С Соловков начался
массовый вывоз заключенных на материк. Задолго до официального открытия строительства, соединяющего
Белое и Балтийское моря, в Медвежьей горе уже строилось здание нового управления
Беломорканалом, воздвигались бараки для заключенных в Медвежьей горе и в
Повенце, а может быть, и в других местах.
Уехал и Володя Раков, и Федя Розенберг, и многие другие.
Жить стало еще тоскливей. Я подружился с племянником Короленко, сыном его
брата Владимиром Юльяновичем Короленко. Он
часто приходил в Кримкаб, благо работал в том же здании УСЛОНа, кажется,
юристом. Он был замечательным рассказчиком. При этом энергично жестикулировал, и это подчеркивало отсутствие
безымянного пальца на левой руке: явный само-руб. Только впоследствии я
узнал, что это было сделано не для отказа от работы. Он хотел заглушить в себе
боль раскаяния: на следствии не устоял и кого-то выдал. Он тоже получил пропуск, и мы вместе гуляли по
окружающим Кремль лесам, восхищались красотой острова, небес, игрой
красок на море, закатами. Ясно помню такую картину. Уже вечерело. Была осень, и
мы попали к озеру по Савватиевской дороге.
Снега еще не было, но поверхность озера уже была покрыта тонким слоем
льда. Мы бросали с ним камни так, чтобы они скользили по льду. Они уносились во
тьму на очень далекое расстояние. Потом мы
подбрасывали камень кверху, он падал вертикально вниз и пробивал лед. На черной
поверхности льда появлялся белый пузырь воздуха и начинал двигаться от
нас к чистой воде. Становилось совсем темно, и только белые пятна воздуха под
тонким черным льдом были видны пропадающими вдали. Почему я это запомнил? Верно, потому, что в детстве в Куоккале я любил
бросать камни в море, «печь блины» и бросать круглые камни вертикально
вверх, чтобы, падая с высоты в воду, они издавали
красивый звук, напоминающий звук открываемой пробки в бутылке.
Я считал своим долгом ходить на
Пересыльный пункт и выручать оттуда
интеллигентных людей. Помню, что я выручил Михаила Дмитриевича Приселкова —
замечательного историка, историка русского летописания. Предложил ему работать
в Музее (договорившись с Н. Н.
Виноградовым), но Михаил Дмитриевич отказался. В конце концов нам
удалось устроить его счетоводом в Сельхозе.
К М. Д. Приселкову я чувствовал особые симпатии. Его отец был
настоятелем Владимирского собора в Петербурге, где мой дед Михаил Михайлович
Лихачев был старостой. Отец мой хорошо знал многодетную семью Приселковых.
В другой раз я выручил из Пересыльного пункта историка
Василенко. Как-то решил ему показать остров, вывел его из Кремля, и мы пошли в
лес — в сторону Переговорного камня. Ходить
туда заключенным не разрешалось ни под каким видом. Объезжал побережье
на лошади и с собачкой сам «главный хирург»
Дегтярев. Он нас и накрыл. Меня узнал и пригрозил Секиркой, но ничего не сделал. «В следующий раз...» Далее шли ругательства.
Но меня тянуло к морю. Как-то я сидел на Кислой губе. И вдруг, о ужас, на противоположной стороне
губы залаяла собачонка Дегтярева. Я бросился в лес, рассчитывая уйти,
пока на лошади он объедет губу. Бог спас. Через болотистую речушку, где конь
пройти не мог, лежала огромная ель, старая, подгнившая, почти без ветвей. Меня
точно поддерживало что-то с обеих сторон и я, как на крыльях, перешел на другую
сторону, скрывшись в кустах. В 1986 году я
побывал в тех местах. Мало что изменилось. На севере лес растет
медленно. Но ели уже не было — сгнила.
Федя из Медгоры
слал мне вызов за вызовом. Не хватало счетного персонала. На воле стали срочно
аре-. стовывать бухгалтеров, даже самых
молчаливых, на которых нечего было
доносить. Меня Федя характеризовал как
выдающегося счетного работника, которому можно поручить главную картотеку Беломорканала. Меня вызывали
(«Вылетай пулей с вещишками!») и отправляли с вещами. Из той же седьмой роты,
из музыкантской команды, брали полковника Семеновского полка Владимира Владимировича Олохова, раздевали догола
в Бане №2, дезинфицируя вещи, и спустя два-три часа... отправляли назад. Это продолжалось не раз и не
два. У меня уже был заказан чемодан — очень прочный: из фанеры, оклеенной старой лазаретной простыней, и
покрашенный в коричневый цвет. Кто мог, заказывал себе такие чемоданы.
Мы с Короленко, которого не вызывали
(у него было десять
лет), решили увековечить свое пребывание на Соловках. Он достал молоток и зубило, мы отправились по Муксаломской дороге и направо (а может
быть, налево?) между двух
продолговатых озер на вершине небольшой продолговатой
же горы нашли камень. Он был нам по грудь. С
южной стороны этого камня мы стали выбивать наши фамилии. Я успел —
«Лихач», он — «Корол». Потом кто-то от него
передал мне, что Короленко добил обе наши фамилии. Не знаю... Но когда я
вернулся в роту, мне сообщили, что меня
снова вызывали.
Мальчик лет двадцати однажды вечером зашел в Кримкаб и предложил мне показать мое дело. Я
зашел в комнату на втором этаже без
окон, сплошь заставленную стеллажами
с делами заключенных. Он забрался на лесенку и протянул мне мое дело.
Это, помнится, была тоненькая тетрадочка в
синей или коричневой обложке с моими анкетными данными (возраст, срок, статья и
пр.). Сверху была только надпись:
«Имел связь с повстанцами на
Соловках». Эту надпись я запомнил твердо. Последний расстрел по делу
сошедшего с ума Кожевникова аукнулся мне такой надписью. Из-за нее-то меня и не
выпускали с острова. Я был «невыездной».
«Невыездным» я бывал впоследствии не один раз, но уже не на материк, а за границу.
В следующий приход «Глеба Бокого» я
выехал в Кемь. Я уже свободно стоял на палубе, смотрел на удаляющийся остров. И вдали промелькнули огоньки:
Соловки, Соловки, Соловки...
Ночевал я в Кеми на Вегеракше в бараке, а утром в вагонзаке с другими меня отправили в Медвежью
гору.
Приезд в Медвежью гору был для меня
праздником. Я чувствовал
освобождение, хотя предстояло мне перенести еще немало жестокого. Но я видел через цепи конвоя «вольных» людей, свободный город. Это так было важно. К
тому же после тьмы соловецких зимних дней здесь
сверкало солнце.
Когда нас привели за проволоку и
построили, я вдруг услышал
женский голос, выкрикнувший: «Дима Лихачев!» Я изумился. Это Федя Розенберг послал свою сотрудницу меня встретить и устроить.
Но здесь начинается другая история —
история моего пребывания
на Беломорско-Балтийском канале. История далеко не легкая.
Публикуется по
Лихачёв Д. С. Книга беспокойств /статьи, беседы, воспоминания/. – М.:
Новости, 1991 г.